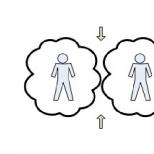Цветаева Марина. Рецензии на произведения Марины Цветаевой
Рец.: Марина Цветаева Ремесло: Книга стихов. Берлин: Геликон, 1923; Психея. Романтика. Берлин: Изд-во З. Гржебина, 1923
Судьба одарила Марину Цветаеву завидным и редким даром: песенным. Пожалуй, ни один из ныне живущих поэтов не обладает в такой степени, как она, подлинной музыкальностью. Стихи Марины Цветаевой бывают в общем то более, то менее удачны. Но музыкальны они всегда. И это — не слащаво-опереточный мотивчик Игоря Северянина, не внешне-приятная «романтическая переливчатость» Бальмонта, не залихватское треньканье Городецкого. «Музыка» Цветаевой чужда погони за внешней эффектностью, очень сложна по внутреннему строению и богатейшим образом оркестрована. Всего ближе она — к строгой музыке Блока.
И вот поскольку природа поэзии соприкасается с природою музыки, поскольку поэзия и музыка где-то там сплетены корнями — постольку стихи Цветаевой всегда хороши. Если бы их только «слушать», не «понимая». Но поэзия есть искусство слова, а не искусство звука. Слово же — есть мысль, очерченная звучанием: ядро смысла в скорлупе звука. Крак — мы раскусываем орех — и беда, ежели ядро горькое, или ежели его нет вовсе.
Но равноценны ядра цветаевских песен. Книги ее — точно бумажные «фунтики» ералаша, намешанного рукой взбалмошной: ни отбора, ни обработки. Цветаева не умеет и не хочет управлять своими стихами. То, ухватившись за одну метафору, развертывает она ее до надоедливости; то, начав хорошо, вдруг обрывает стихотворение, не использовав открывающихся возможностей; не умеет она «поверять воображение рассудком» — и тогда стихи ее становятся нагромождением плохо вяжущихся метафор. Еще менее она склонна заботиться о том, как слово ее отзовется в читателе — и уж совсем никогда не думает о том, верит ли сама в то, что говорит. Все у нее — порыв, все — минута; на каждой странице готова она поклониться всему, что сжигала, и сжечь все, чему поклонялась. Одно и то же готова она обожать и проклинать, превозносить и презирать. Такова она в политике, в любви, в чем угодно. Сегодня — да здравствует добровольческая армия, завтра — Революция с большой буквы. Ничего ей не стоит, не замечая, пройти мимо существующего и вопиющего — чтобы повергнуться ниц перед несуществующим, — например, воспеть никогда не существовавшего «сына Блока Сашу» («Ремесло», стр. 87-88) в виде вифлеемского младенца, от чего неверующему человеку станет смешно, а верующему — противно. В конце концов — со всех страниц «Ремесла» и «Психеи» на читателя смотрит лицо капризницы, очень даровитой, но всего лишь капризницы, может быть — истерички: явления случайного, частного, переходящего. Таких лиц всегда много в литературе, но история литературы их никогда не помнит.
Примечания
Книга и революция (Петроград). 1923. № 4 (28). С. 72-73.
234. Перифраз известного выражения А. С. Пушкина «поверять алгеброй гармонию» (из трагедии «Моцарт и Сальери»).
235. Парафраз со стихотворными строками из романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», где Михалевич произносит: «И я сжег все, чему поклонялся. // Поклонился всему, что сжигал» (наблюдение О. Коростелева).
236. Стихотворный цикл «Вифлеем» открывается посвящением: «Сыну Блока, — Саше». М. Цветаева ошибочно считала сына Петра Семеновича Когана (литературовед, критик) и Надежды Александровны Нолле-Коган (переводчица), в доме которых останавливался А. Блок, приезжая в Москву в 1920-21 годы, сыном самого поэта (См. письма к Р. Гулю: СС. Т. 6. С. 532, 536).
Рец.: Марина Цветаева
Ремесло: Книга стихов. Берлин: Геликон, 1923 {57}
Цветаева - вся устремленность.
С протянутыми вперед руками, готовая броситься вслед неотвязно зовущему, но неожиданно окаменевшая в движении; внешне застывшая, чтобы под спокойным покровом свершать вечный полет. Такой легче всего представить себе Цветаеву.
Люди с ее темпераментом, духовной силой и напряженностью совершают подвиги и преступления. Всходят на эшафот, сжигаются на кострах, фанатически верные, даже не идее, а только протесту, бунту, экс-тазу.
Душа не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
. . . . . . . . . .
Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей…
. . . . . . . . . .
Саванароловой сестра
Душа, достойная костра!
Она жаждет реального подвига и жертвы:
Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне не спит.
При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ - а щит!
(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)
И - вдохновенно улыбнувшись - первым
В этих сухих строках сгущен мистический экстаз, духовное сладострастье, вся святость огромного, мрачного католического собора, готовая вдруг запрокинуться.
Путь Цветаевой труден и страшен. Рядом с молитвенными «Стихами к Блоку» и освещенной чистым огнем «Разлукой» могла появиться резкая - «Царь-Девица». Но «Ремеслом» Цветаева показала, что нашла выход своему духовному взрыву. Она принадлежит к тем огромным поэтам, которым нет средних путей: или полное падение вниз головой, или победа. Цветаева победила себя и других.
Поэтесса прекрасно озаглавила свою книгу, хоть далеко не все вошедшее действительно имеет право носить название «Ремесла». «Переулочки» и еще несколько произведений, судя по характеру всей книги, случайны. Но рядом с ними есть изумительные произведения, в которых скрылась под внешней гладкостью сила в глубине ворочающегося вулкана:
С такою силой в подбородок руку
Вцепив, что судорогой вьется рот,
С такою силою поняв разлуку,
Что, кажется, и смерть не разведет -
Так знаменосец покидает знамя,
Так на помосте матерям: Пора!
Так в ночь глядит - последними глазами -
Наложница последнего царя.
Как просто сделано: образное, неожиданное начало и несколько неотвязно ярких сравнений. Кратко, сжато, скреплено.
За всем удальством, грубоватыми мужскими замашками и силой в Цветаевой кроется бесконечно много женского, все устремление ее к жертве и подвигу - чисто женское.
Быть голубкой его орлиной!
Больше матери быть - Мариной!
Вестовым - часовым - гонцом.
. . . . . . . . . . . . . . .
Черным вихрем летя беззвучным,
Не подругою быть - сподручным!
Не единою быть - вторым!
Какой маленькой и бледной кажется женственность и нежность Ахматовой в сравнении с любовным порывом Цветаевой. А ту женщину, которая не смогла познать любви и жалости, она проклинает.
Очень хороши и характерны стихи, обращенные к своей молодости. Муза «такая далекая» победила озорную и вольную молодость.
Книгоиздательство «Геликон». Москва/Берлин, типография «Буква» G.m.b.H., 1923, 166 стр. В печатных издательских обложках. Экземпляр напечатан на бумаге верже. Формат: 18х11 см.

Библиографические источники:
1. The Kilgour collection of Russian literature 1750-1920. Harvard-Cambrige, 1959 - отсутствует!
2. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. Аннотированный каталог. Москва, 1989, №2441.
3. Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова. Библиографическое описание. Москва, 1975 - отсутствует!
4. Тарасенков А. Русские поэты XX века, М., 1966, стр. 395.
5. Тарасенков А.К., Турчинский Л.М. Русские поэты XX века, М., 2004, стр. 715.

Когда-нибудь, прелестное созданье,
Я стану для тебя воспоминаньем,
Там, в памяти твоей голубоокой,
Затерянным - так далеко-далеко.
Забудешь ты мой профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе папиросы,
И вечный смех мой, коим всех морочу,
И сотню - на руке моей рабочей -
Серебряных перстней, чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...
Как в страшный год, возвышены бедою,
Ты - маленькой была, я - молодою.

 Ослепительным солнечным днем 15 мая 1922 года московский поезд подошел к берлинскому вокзалу. Отныне Марина Цветаева стала эмигранткой. Открывая для себя улицы Берлина, Ариадна удивлялась чистоте и порядку в городе, контрастировавшим с пестротой и суетой Москвы. Ее мать, наоборот, не успела даже заметить, что они за границей, потому что именно Россия, сама Россия приняла ее по приезде в центре Германии. Все такой же предусмотрительный, Илья Эренбург забронировал им комнату в семейном пансионе на Траутенауштрассе, 9, где жил со своей женой. Не дав ей времени передохнуть, Эренбург ввел новоприбывшую в колонию изгнанников из России, где офицеры Белой армии соседствовали с интеллектуалами, бежавшими от преследований, чинимых советской властью, и колеблющимися «туристами», еще не решившими, к кому им примкнуть. Объединенные общим несчастьем и общей ностальгией, социалисты-революционеры, монархисты, анархисты и оппортунисты воспользовались дезорганизацией германской экономики после перемирия 1918 года, чтобы малость поживиться за счет страны, разоренной инфляцией. Приток этих беженцев был таков, что им были немедленно и широко распахнуты двери многочисленных русских издательств, русских типографий, русских газет и журналов. Жадная до информации публика с нетерпением ожидала всего, что здесь печаталось. Влюбленные в литературу изгнанники группировались в излюбленном своем квартале: на Прагерплац в кафе «Прагердиле». За всеми столиками, утопавшими в табачном дыму, в зале, пропахшем пивом, говорили о вчерашней России, о сегодняшней России, о завтрашней России с такой свободой, какая в Москве или Петрограде непременно привела бы в тюрьму или к стенке. Проникнув вслед за Ильей Эренбургом в эту разогретую спорами атмосферу, Марина сразу же почувствовала себя как дома. Все в Берлине знали ее и восхищались ею. Как бы заранее приветствуя вхождение Поэта в круг политических изгнанников, русские издательства Берлина - «Огоньки» и «Геликон» - еще в начале года выпустили в свет почти одновременно два ее сборника: «Стихи к Блоку» и «Разлука». Оба имели грандиозный успех, а «крестным отцом» опусов являлся Илья Эренбург. «Знатоки» помещали Цветаеву в один ряд с Ахматовой.
Ослепительным солнечным днем 15 мая 1922 года московский поезд подошел к берлинскому вокзалу. Отныне Марина Цветаева стала эмигранткой. Открывая для себя улицы Берлина, Ариадна удивлялась чистоте и порядку в городе, контрастировавшим с пестротой и суетой Москвы. Ее мать, наоборот, не успела даже заметить, что они за границей, потому что именно Россия, сама Россия приняла ее по приезде в центре Германии. Все такой же предусмотрительный, Илья Эренбург забронировал им комнату в семейном пансионе на Траутенауштрассе, 9, где жил со своей женой. Не дав ей времени передохнуть, Эренбург ввел новоприбывшую в колонию изгнанников из России, где офицеры Белой армии соседствовали с интеллектуалами, бежавшими от преследований, чинимых советской властью, и колеблющимися «туристами», еще не решившими, к кому им примкнуть. Объединенные общим несчастьем и общей ностальгией, социалисты-революционеры, монархисты, анархисты и оппортунисты воспользовались дезорганизацией германской экономики после перемирия 1918 года, чтобы малость поживиться за счет страны, разоренной инфляцией. Приток этих беженцев был таков, что им были немедленно и широко распахнуты двери многочисленных русских издательств, русских типографий, русских газет и журналов. Жадная до информации публика с нетерпением ожидала всего, что здесь печаталось. Влюбленные в литературу изгнанники группировались в излюбленном своем квартале: на Прагерплац в кафе «Прагердиле». За всеми столиками, утопавшими в табачном дыму, в зале, пропахшем пивом, говорили о вчерашней России, о сегодняшней России, о завтрашней России с такой свободой, какая в Москве или Петрограде непременно привела бы в тюрьму или к стенке. Проникнув вслед за Ильей Эренбургом в эту разогретую спорами атмосферу, Марина сразу же почувствовала себя как дома. Все в Берлине знали ее и восхищались ею. Как бы заранее приветствуя вхождение Поэта в круг политических изгнанников, русские издательства Берлина - «Огоньки» и «Геликон» - еще в начале года выпустили в свет почти одновременно два ее сборника: «Стихи к Блоку» и «Разлука». Оба имели грандиозный успех, а «крестным отцом» опусов являлся Илья Эренбург. «Знатоки» помещали Цветаеву в один ряд с Ахматовой.

Некоторые находили ее творчество даже более волнующим, оригинальным и «современным», чем творчество великой поэтессы, оставшейся в России. Пока Ариадна, опьяненная наслаждением от того, что можно съесть апельсин или выпить свежего пенящегося пива, открывала для себя эти маленькие радости бытия, Марина с не меньшим удовольствием обнаруживала, что все вокруг нее только и стараются облегчить ей знакомство с Западом. Молодой Абрам Вишняк, руководивший маленьким издательским домом «Геликон» (под таким прозвищем Вишняк, кстати, и выступает как в письмах Марины, так и в воспоминаниях Ариадны), создал из нее буквально культового персонажа, возвел на такой пьедестал, что Марина - в знак признательности - немедленно влюбилась в этого пылкого своего поклонника. В ожидании Сергея Эфрона, который томился в Праге, разрабатывая весьма проблематичные планы воссоединения с Мариной, она посылает Абраму целую серию пламенных писем (впоследствии она объединит их в сборник под названием «Флорентийские ночи»), затем - несколько стихотворений, сочиненных для других адресатов, но перепосвященных - одним росчерком пера. Ее физическое влечение к этому новоприбывшему было таково, что она выразила его в письме без малейшего стыда: «Вино высвобождает во мне женскую сущность (самое трудное и скрытое во мне). Женская сущность - это жест (прежде чем подумать!). Зоркость не убита, но блаженное право на слепость». Ариадна наблюдала за любовными похождениями матери со смешанным чувством детской ревности и женской досады. Но девочку успокаивало то, что она быстро распознала в Абраме человека податливого, легко поддающегося влиянию, тогда как мать была для нее верхом энергичности и прозорливости. «Геликон» всегда разрываем на две части, - записала она уже тогда, десятилетняя, и опубликовала через много лет в «Страницах воспоминаний», - бытом и душой. Быт - это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться - души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, уют, а этого как раз душа не дает. Когда Марина заходит в его контору, она - как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкивания в люльку. Она выталкивает из люльки даже ребенка, с которым она говорит, причем божественно уверена, что баюкает его - а от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с «Геликоном» говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока - Северный полюс, и так же заманчива. От ее слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжелых дел есть просвет и что-то не повседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Маринино существо - это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка». Впрочем, эта литературная идиллия длилась недолго. Большая часть Марининых страстей была столь же ослепительна, сколь и кратковременна. Отношения ее с Ильей Эренбургом, более чем сердечные вначале, тоже очень скоро разрушились: если поэзия их объединяла, то политика - разделяла. Эренбург, который никогда по-настоящему не осуждал захвата власти большевиками, не советовал Цветаевой публиковать «Лебединый Стан», потому что включенные в этот цикл стихи казались ему вдохновленными монархической лжеархаикой. Одновременно взволнованная и раздраженная этой критикой, Марина пообещала придержать выход в свет этой работы, созданной некогда в честь героизма товарищей по оружию ее мужа. Зато, когда в Берлин прибыл Андрей Белый, она восприняла его как всегдашнего друга, хотя в России не была особенно близка с ним. Белый предпринял это путешествие, чтобы встретиться с бывшей женой, с которой они расстались шесть лет назад. Заботы о примирении с супругой, однако, не мешали ему пристально следить за событиями литературной жизни. Он только что прочел «Разлуку» и не уставал восхвалять этот поэтический труд. «Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги... Давно я не имел такого эстетического наслаждения... весь вечер под властью чар ее», - писал Белый Цветаевой 16 мая 1922 года. Почти сразу же после этого письма, 21 мая, в берлинской газете «Голос России» появилась его статья, названная «Поэтесса-певица», о том, что в стихах главное - это «порывистый жест», «порыв» и что стихи Цветаевой, как вся русская поэзия, «от ритма и образа явно восходят к мелодии, утраченной со времен трубадуров». А заканчивалась эта статья так: «... если Блок есть ритмист, если пластик по существу Гумилев, если звучник есть Хлебников, то Марина Цветаева - композиторша и певица - Мелодии Марины Цветаевой неотвязны, настойчивы... Мелодию предпочитаю я живописи и инструменту; и потому-то хотелось бы слушать пение Марины Цветаевой лично... и тем более, что мы можем приветствовать ее здесь, в Берлине». Но самой высокой оценкой было для Цветаевой то, что ее книжечка, по собственному признанию Белого, после долгого перерыва вернула его к стихам. Новый сборник, вышедший в том же 1922 году в Берлине, Белый назвал «После Разлуки»; последнее стихотворение в нем было посвящено М. И. Цветаевой... Настоящее чудо, осветившее ее жизнь на годы, пришло из Москвы: 27 июня Эренбург переслал Цветаевой письмо Бориса Пастернака. Это был голос родного: друга - брата - двойника? Невозможно было вообразить, что они встречались со времен «Мусагета», обменивапись незначительными репликами, даже слышали стихи друг друга - и остались равнодушны. Эренбург не раз пытался «внушить» ей Пастернака, но это имело обратное действие: она не хотела любить то, что уже любит другой... Пастернак даже заходил к ней в Борисоглебский - приносил письма от Эренбурга... На похоронах Скрябиной она шла с ним рядом... Но и он не заметил Цветаеву, «оплошал и разминулся» с ее поэзией, как сказано в его первом письме. Теперь он прочел вторые «Версты», был потрясен и признавался, что некоторые стихи вызывали у него рыдания. Подводя итоги жизни, Пастернак вспоминал: «Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов. Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений». Их роднило и помогало их росту ощущение силы друг друга. В первом письме Пастернак ставил Цветаеву в ряд с «неопороченными дарованиями» Маяковского и Ахматовой. «Дорогой, золотой, несравненный мой поэт», - обращался он к ней. Она ответила через два дня, дав его письму «остыть в себе», и одновременно послала «Стихи к Блоку» и «Разлуку» - ведь Пастернак пока знал только одну ее книгу. Она же еще не видела недавно вышедшего сборника «Сестра моя - жизнь». Но уже через неделю Цветаева предлагала редактору берлинского журнала «Новая русская книга» А. С. Ященко рецензию на «Сестру»: «Только что кончила, приблизительно 1/2 печати, листа. Сократить, говорю наперед, никак не могу... Будьте милы, ответьте мне поскорей, это моя первая статья в жизни - и боевая. Не хочу, чтобы она лежала». Рецензия действительно была «боевая», написанная энергично, напористо, со множеством стихотворных цитат - в стремлении покорить читателя Пастернаку, которого она называет «единственным поэтом». Поэзию Пастернака Цветаева определила как «Световой ливень». Под ударом письма и книги она пишет первое обращенное к Пастернаку стихотворение:
Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!
Она продолжает разговор о его стихах, но передает не объективное (хотя какое уж у Цветаевой «объективное»!) впечатление, а те интимные ощущения, которые у нее вызвала «Сестра моя - жизнь». Это встреча с родной душой, проникающей в ее душу и завораживающей ее:
И не кори меня, друг, столь
Заворожимы у нас, тел,
Души...
Комментарием к стихам служит ноябрьское, уже из Чехии, письмо Пастернаку: «...«Слова на сон». Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша зеленая книга на коленях. (Сидела на полу). - Я тогда десять дней жила ею, - как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась...» О, как ей нужна была именно такая - взаимная - встреча с родной душой. С душой - равной поэзии, и с поэзией - равной душе. Самым важным было то, что он не испугался высоты и напряженности отношений, на которую немедленно и неминуемо поднялась Цветаева. Они были вровень в этой дружбе; можно сказать, что письмо Пастернака, полученное Цветаевой летом 1922 года в Берлине, в каком-то смысле изменило ее жизнь. Теперь у нее был непридуманный спутник. Вишняк, Белый, Пастернак... Эренбург, дружба с которым кончилась внутренним разминовением... Встреча с Владиславом Ходасевичем, приехавшим вскоре после Цветаевой... Знакомство с Марком Слонимом, в Праге перешедшее в многолетнюю дружбу... Молодая художница Людмила Чирикова, оформившая берлинское издание «Царь-Девицы»... Начинающий литератор Роман Гуль, писавший о цветаевских книгах, помогавший пересылать ее письма и книги Пастернаку... Издатель С.Г. Каплун, выпустивший цветаевскую «Царь-Девицу» и «После Разлуки» Андрея Белого... Поэты, прозаики, художники, издатели... Рождались и умирали многочисленные литературные предприятия: газеты, альманахи, издательства, журналы, сборники... Возникали и рушились дружбы, романы, семьи... «Русский Берлин» жил напряженно-лихорадочной жизнью. Он был полон людьми самых разных направлений и устремлений. Политические эмигранты, для которых путь в Россию был отрезан, соседствовали с полуэмигрантами, стоявшими на распутье: возвращаться ли в Советскую Россию? Было - как никогда позже - много советских, выпущенных в командировки или для поправки здоровья. Было время «сменовеховства»; незадолго до приезда Цветаевой в Берлине начала выходить сменовеховская газета «Накануне», Литературное приложение к которой редактировал Алексей Толстой. Здесь печатались все - и эмигранты, и советские - но не Цветаева. С «Накануне» связан первый политический скандал, в котором она приняла участие. 4 июня в Литературном приложении появилось письмо Корнея Чуковского к Алексею Толстому - из Петрограда в Берлин. Чуковский весьма нелестно отзывался о некоторых петроградских писателях, своих коллегах по Дому искусств, и даже сообщал, что они «поругивают Советскую власть». Наряду с неумеренными восторгами по поводу писаний Алексея Толстого и призывами вернуться, Чуковский поносил «внутренних» эмигрантов, называл их «мразью» (в частности, Евгения Замятина - «чистоплюем»), а петроградский Дом искусств - клоакой. Эта публикация вызвала бурю негодования как против Чуковского, так и против Толстого, предавшего его письмо гласности. 7 июня газета «Голос России» напечатала открытое письмо Цветаевой А. Толстому. Еще не успевшая опомниться от «кровавого тумана», Цветаева больше всего возмутилась намеками на неблагонадежность писателей, живущих на родине. «Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, - обращалась она к А. Толстому, - не подозревающий ни о существовании в России ГПУ (вчерашнее ЧК), ни о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закрытии «Летописи Дома Литераторов», ни о многом, многом другом... Допустим, что одному из названных лиц после 4 1/2 лет «ничего неделанья» (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю, - какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо? Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу». Безнравственность письма К. Чуковского и факта его публикации для Цветаевой заключалась в его доносительстве, прикрытом громкими фразами восхищения русским народом и боли за русскую литературу. Политическое сменовеховство, желание подслужиться к Советской власти задели ее гораздо меньше. Открытое письмо А. Толстому - старому знакомому, бывшему коктебельскому «Али-хану», частому гостю московского «обормотника» - она закончила таким рассказом: «За 5 минут до моего отъезда из России (11 мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам. - «С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего». Жму руку ему и не жму руки Вам. Марина Цветаева». Русские «страсти» кипели в Берлине по немецким кафе, облюбованным эмигрантами. В разное время суток назначались деловые, дружеские и любовные свидания, решались не только умозрительные «судьбы России», но и вполне конкретные судьбы людей и рукописей. Цветаева варилась в этом котле. А что же - Сережа? Ведь это ради него она уехала из Москвы. Почему его имени нет на страницах, посвященных началу ее эмигрантской жизни? Сергей Эфрон сумел приехать в Берлин только в первой половине июня, в разгар драматических отношений своей жены с Вишняком. Как они встретились? Что почувствовали после почти пятилетней разлуки?
Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! - Живейшая из жен:
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавшийся сон.
Это стихотворение встречи написано 25 июня, и, хотя не имеет посвящения, можно с уверенностью считать его обращенным к Сергею Эфрону. И все-таки - «Главное: живы и нашли друг друга!» - как пишет Ариадна Эфрон. Ей запомнилось, что в день приезда отца они почему-то опоздали на вокзал и встретили его, выйдя с перрона на привокзальную площадь: «Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез...». Счастье встречи было отравлено, когда Сергей Яковлевич догадался об отношениях Цветаевой к Вишняку. Вероятно, поэтому он так быстро покинул Берлин и вернулся в Прагу. Между ними было решено, что они будут там жить вместе: он учился в Карловом университете и получал стипендию. Была надежда, что и Цветаевой дадут пособие, которым чехословацкое правительство поддерживало русских эмигрантов - писателей и ученых. Это было нечто осязаемое, на что вряд ли можно было рассчитывать в Германии, разоренной войной и жившей под угрозой инфляции. В Берлине Цветаева продала издательству «Эпоха» «Царь-Девицу», «Геликону» - сборник стихов «Ремесло», с ним же начала переговоры об издании книги своих московских записей. В «Эпопее», издававшейся Андреем Белым, после ее отъезда были напечатаны «Световой ливень» и стихи. Она завязала отношения и с другими альманахами и сборниками. Но все было неустойчиво, бурная русская книгоиздательская деятельность в Берлине могла прекратиться в любой день. Не осталось и человеческих отношений, которыми она могла бы дорожить здесь. Белый уехал. Увлечение Вишняком исчерпало себя, не принеся радости. Настолько исчерпало, что стали неприятны даже стихи к нему: «тошно!., отвращение к стихам в связи с лицами (никогда с чувствами, ибо чувства - я!) - их вызвавшими». Разладилась дружба с Эренбургом: в основе, кажется, лежало неприятие им ее «русских» вещей. В своих мемуарах он не совсем точно пишет, что споры возникли из-за «Лебединого Стана», который он уговорил Цветаеву не печатать. Но «Лебединого Стана» как книги еще не существовало, Цветаева подготовила ее через год и предприняла попытку опубликовать. Да и Эренбургу, работавшему в то время над «Жизнью и гибелью Николая Курбова» (кстати, Цветаева считала: «героиню он намеревался писать с меня»), не было резонов отговаривать ее от «Лебединого Стана». Трещина в их отношениях расширялась другим, более личным. Л. Е. Чирикова, которую я спросила о берлинской жизни, ответила в письме: «...вся жизнь тогда была «на переломе» и все люди тоже. Я помню, как я столкнулась на вокзале, провожая Марину в Чехию, с Марком Слонимом и сцепилась с ним в разговор и критику тогдашнего литературного общества. На тему, что все они теряют свое главное и разбивают свою жизнь на «эпизодики». За что Слоним назвал меня «пережитком тургеневской женщины»». Кажется, один из таких «эпизодиков» вклинился в литературную дружбу Цветаевой с Эренбургом. Речь идет о двух парах - Вишняках и Эренбургах, среди которых Цветаева почувствовала себя «пятым лишним»: «много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестные любови (ни одной настоящей!) - все в Prager-Diele (знаменитое «русское» кафе в Берлине), все шуточно...» Цветаева с ее прямотой чувствовала свою неуместность в такой обстановке: «Совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбления под видом «откровений»...» Берлинский эпизод окончился, оставаться в Берлине становилось тяжело: «Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна». Даже намечавшийся приезд Пастернака не задержал ее: сейчас она предпочла эпистолярную дружбу. Из Берлина уезжала уже не совсем та Цветаева, которая два с половиной месяца назад покидала Москву. За плечами оставался большой кусок жизни, но впереди было много сил и надежд. Вот какой увидел Цветаеву в Берлине Марк Слоним: «Она говорила негромко, быстро, но отчетливо, опустив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах - тоже серебряных - сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское». Такому рукопожатию еще в юности научил ее Волошин. Первого августа Цветаева с дочерью приехали в Прагу и через несколько дней поселились в Мокропсах - город был им не по карману. За три с небольшим чешских года семья переменила несколько мест: Дольние и Горние Мокропсы («Мокротопы, Мокроступы...» - иронизировала Цветаева), Иловищи, Вшеноры. Все это были ближайшие к Праге и друг к другу дачные поселки, в начале двадцатых годов «оккупированные» русскими эмигрантами. Начиналась долгая повседневная, полная мелких хлопот и безденежья, настоящая эмигрантская жизнь, часто осветленная многочисленными влюбленностями Марии Ивановны. Одним из таких лучей был Гронский. По словам Цветаевой, Гронский пришел к ней попросить одну из ее книг, вероятно, «Ремесло». Поэт окончил русскую гимназию в Париже, учился в университете на отделении литературы. Они жили по соседству в парижском пригороде, были знакомы семьями (в конце 1926-1927 гг. они даже были соседями по дому в Беллевю). Отец Гронского - Павел Павлович, приват-доцент государственного права Петербургского университета, в Париже был сотрудником русской газеты «Последние новости», где изредка печаталась Цветаева, его мать - Нина Николаевна - была талантливым скульптором, и сын помогал ей в мастерской. О, как она его любила… В ее письмах к нему, в цветаевских строках запечатлено дыхание поэта, рвущееся настежь сердце: «Мой родной мальчик! Я в полном отчаянии от всего, что нужно сказать Вам: скажу одно - не скажу всего - значит не скажу ничего - значит, хуже: раздроблю всё. Всё, уменьшенное на одно, размененное на «одно» («два»). Ведь только так и надо понимать стих Тютчева: когда молчу - говорю всё, когда говорю - говорю одно, значит не только не всё, но не то (раз одно!) И все-таки говорю, потому что еще жива, живу. Когда умрем, заговорим молча». Отношения «раздробились» достаточно скоро. «Он любил меня первую, а я его последним. Это длилось год. Потом началось - неизбежное при моей несвободе - расхождение жизней, а весной 1931 года и совсем разошлись: наглухо», - подведет в декабре 1934 года Цветаева знаменатель под историей отношений. «Мой любимый вид общения - потусторонний сон: видеть во сне. А второе - переписка. Письмо как некий вид потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон, но законы те же...» Муж Цветаевой Сергей Эфрон понимал, что Марина - «человек страстей: гораздо в большей мере, чем раньше». В письме к Волошину он проанализировал характер своей жены, с безжалостностью препарируя пером, как скальпелем, отношение Цветаевой к одному из ее возлюбленных - Константину Родзевичу: «Отдаваться с головой своему урагану - для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас - неважно. Почти всегда (теперь же как и раньше), вернее всегда, все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживается скоро, Марина предается ураганному же отчаянию... Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние... Громадная печь, для разогревания которой нужны дрова, дрова и дрова...»
Г. Струве
Рец.: Марина Цветаева. Ремесло: Книга стихов
Берлин: Геликон, 1923;
Психея. Романтика. Берлин: Изд-во З.Гржебина, 1923 {63}
Из русских поэтесс бесспорно самой признанной является Анна Ахматова. Марине Цветаевой еще далеко до ахматовской славы. Но несомненно, что при всех недостатках поэзия Цветаевой интереснее, шире, богаче возможностями, чем узкая по диапазону лирика Ахматовой. Ахматова - законченный поэт, создавший вещи, которые останутся навсегда. Но источник ее творчества уже застывает или оскудевает. Мы не чувствуем в ней потенциальной силы. После «Четок» было углубление старого русла, но не было движения вширь. Цветаева, напротив, вся - будущая потенция. У этих двух поэтесс общего только то, что они обе женщины и что их женская суть находит выход в поэзии. Тяготение Цветаевой к Ахматовой, выразившееся в посвящении целого цикла стихов, не поэтическое, а душевное, человеческое. Они во всем противоположны. Тогда как у Ахматовой везде - строгость, четкость, мера, подчинение словесной стихии логическим велениям, тяготение к классическим размерам, у Цветаевой из каждой строчки бьет и пышет романтическая черезкрайность и черезмерность, слова и фразы насилуются, гнутся, ломаются в угоду чисто ритмическим заданиям, а ритмы пляшут и скачут как бешеные. Не стихи, а одно сплошное захлебывание, один огромный одновременный (каждое мгновение дорого! не промедлить, не упустить!) вздох и выдох:
Пью - не напьюсь. Вздох - и огромный выдох,
. . . . . . . . . . . .
Так по ночам, тревожа сон Давидов,
В стихах Ахматовой и Цветаевой ясно выразились две линии современной русской поэзии: петербургская и московская. Петербургская - это, кроме Ахматовой: Мандельштам, Кузмин, Ходасевич, Рождественский и др. молодые. Московская - это, кроме Цветаевой: А.Белый, Есенин, Пастернак, имажинисты и футуристы, поскольку они поэты, Эренбург. В цветаевской галерее место и Пушкина. Московская - от нутра, от народной песни, от Стеньки Разина. Не может быть, чтобы Цветаева не любила и не ценила Пушкина, но она наверное больше любит романтических «Цыган» (одно имя Мариула чего стоит!), чем «Медного всадника» или «Евгения Онегина». А когда Цветаева обретает строгость, это строгость не набережных и проспектов императорского Петербурга, а пышная строгость византийской иконописи.
У каждого поэта есть своя поэтическая родословная, более или менее явная. У Цветаевой ее нет. Иногда за ее строчками, то в бешеной скачке обгоняющими одна другую, то в каком-то неповоротливом движении одна за другую цепляющимися, но почти никогда не текущими плавно - почудятся лики и лица Державина, Тютчева, Блока, Эренбурга. Покажутся и скроются. Не портреты, а призраки. Не настоящие: в галерее предков их не повесишь. Прочтите «Сугробы», «Ханский полон», «Переулочки» - при чем тут Державин, Тютчев, даже Блок и Эренбург? В цветаевской галерее место только одному лику, но этот один на стене не закрепишь: все норовит уйти. Это - лик России.
Родины моей широкоскулой,
Матерный, бурлацкий перегар,
Или же - вдоль насыпи сутулой,
Единственное сильное влияние, ощутимое в поэзии Цветаевой, - это влияние русской народной песни. Не оттуда ли этот безудерж ритмов? Цветаева безродна, но глубоко почвенна, органична. Свое безродство она как будто сознает сама, когда говорит:
Ни грамоты, ни праотцев,
Ни ясного сокола.
Идет - отрывается, -
Такая далекая!
…………………………………
Подол неподобранный,
Ошметок оскаленный.
Не злая, не добрая,
В «Ремесле» (здесь стихи, наиболее поздние по времени: 1921–22 гг.) народно-песенный уклон поэзии Цветаевой сказался с особой силой. По ритмическому богатству и своеобразию это совершенно непревзойденная книга, несмотря на присутствие плохих, безвкусных стихов (Цветаева лишена чувства меры, и от этого страдает часто ее вкус). Но, мне кажется, дальнейший путь Цветаевой пролегает не здесь, не в области разрешения чисто ритмических задач. Многие стихи «Ремесла» суть, по-видимому, просто опыты; еще не прошел «час ученичества» и не наступил «час одиночества», т. е. наибольшей поэтической зрелости.
Есть у Цветаевой другой намек на родство - с романтиками. В книжке «Психея» она собрала стихи разного времени, преимущественно более ранние, чем в «Ремесле» (есть и 1916 г.), объединив их по признаку «романтики». И это едва ли не лучшее из того, что Цветаевой написано. Романтическая струя - основная в ее творчестве. Чуется она и в «Ремесле», где, однако, внутренний романтизм заслоняется внешней вакханалией ритмов. Но в «Психее» она проступает явственно. С романтиками роднит Цветаеву и самая ее черезкрайность, стремление перелиться в другую заповедную стихию - проникнутость поэзии духом музыки. Романтические стихи Цветаевой неизменно задевают и волнуют - не только ошарашивают, как некоторые ее ритмические опыты, - не есть ли это самое большее, что можно сказать о стихах? Особенно хороши циклы «Плащ», насыщенный подлинной романтикой, «Иоанн», «Даниил», «Стихи к дочери».
Дальнейший путь Цветаевой теряется в тумане, но она вступает в него с богатой поклажей поэтических возможностей. С интересом будем ждать ее дальнейших книг.
Обе книги изданы хорошо, особенно «Ремесло».
Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество.
Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 7 -
Симферополь: Крымский архив, 2009. С. 172-181.
Поэзия как ремесло и искусство:
А. Ахматова и М. Цветаева о поэтическом творчестве
Целью статьи является выяснение отношения двух крупнейших поэтов XX века к тайне творчества. Н. Коржавин в статье о поэзии Серебряного века высказал мнение, что именно поэты XX века стали: "…интриговать читателя муками творчества" . Это мнение можно оспорить, поскольку первым начал интриговать читателя муками творчества всё-таки Платон ("Федр", "Ион"), говоря об одержимости поэта музами. XIX век не оставил без внимания тему творчества, одинаково волновавшую как поэтов, так и читателей. А. Пушкин слегка приоткрыл завесу, написав: "Пока не требует поэта…", но тайна творчества так и осталась тайной, ибо Аполлон, призывающий поэта к священной жертве, есть только мифологический образ. Правда, за ним стоят такие понятия как вдохновение, одержимость, наитие, но они не объясняют сами по себе свою глубинную природу. К. Павлова, назвав поэтическое дело "святым ремеслом" , озадачила читателей, ибо под ремеслом понималось изготовление изделий ручным способом. К. Павлова несколько снизила пафос поэтического вдохновения, указав на роль труда при "изготовлении поэтического продукта". "Святое" ремесло поэта потому, что оно связано с напряжением всех душевно-духовных сил творца. "Святое" - поскольку связано с источником вдохновения - высшей творческой силой, находящейся вне поэта, ниспосылаемой ему как "благодать". Поэзия для К. Павловой есть "дивный мир средь мира прозы". Проза в благодати не нуждается. Вдохновение, по К. Павловой, поэту необходимо не только потому, что оно побуждает его к творчеству, но ещё и потому, что оно может "дивно тронуть сердце" другого человека. И всё-таки одного вдохновения мало, считает К. Павлова: "Труд ежедневный! Труд упорный! / Ты дух смиряешь непокорный, / Ты гонишь нежные мечты". Итак, упорный, ежедневный, высокий труд плюс вдохновение есть формула творчества, по К. Павловой.
Приоткрывает ли эта формула завесу над тайной творчества? Остаётся не вполне понятным, откуда всё-таки бьёт источник вдохновения. И каков конкретно характер поэтического труда? Подбор рифм? Угадывание ритма? Соблюдение размера? К. Павлову волновал вопрос: кто такой поэт? На этот вопрос она ответила так: "Он вселенский гость, ему всюду пир, / Всюду край чудес; / Ему дан в удел весь подлунный мир, / Весь объём небес". Мир поэту дан и он ему нужен, но парадокс в том, что поэт - миру не очень-то и нужен: "Гость ненужный в мире этом" . Ещё более парадоксально то, что поэт, по мнению К. Павловой, пишет не для читателей: "Пишу не для потомства, / Не для толпы, а так, для никого". К. Павлова не объясняет свою позицию. Остаётся полагать, что она пишет для себя и для собственного удовольствия. Или это лукавство? Временный упадок духа? Потому что, когда А. Д. Баратынская переписывает понравившиеся стихи поэта, К. Павлова радуется: "Я поняла, любуясь Вами, / Что я не вправе духом пасть, / Что не жалка судьба поэта, / Чьё вдохновение могло / Так дивно тронуть сердце это / И это озарить чело". Тронул читательницу всё-таки плод вдохновения, а не труда.
К. Павлова делит поэтов на три категории: поэты вдохновения, поэты высокого труда, немые поэты, т. е. поэты в душе, не умеющие выразить мысли и чувства в поэтическом слове. Себя К. Павлова причисляла к поэтам высокого труда. Так возникло сравнение поэта с пахарем, ибо поэт тоже сеятель, и плоды его трудов тоже достанутся людям: "Неумолимо и сурово / По области сердец всё снова, / Как тяжкий плуг, проходишь ты, / Её от края и до края / В простор невзрачный превращая, / Где пёстрый блеск цветов исчез…/ Но на неё в ночное время, / В бразды - святое сеять семя / Нисходят ангелы с небес". До К. Павловой поэты говорили о вдохновении, творчество было прикрыто флёром божественной тайны. О том, что поэтическое творчество есть тяжкий труд, подобный труду пахаря, говорить считалось неприличным. В итоге поэтический труд, по К. Павловой, есть святое, т. е. вдохновенное ремесло; поэту нужен весь мир, в котором он вселенский и ненужный гость. Мир может без поэта свободно обойтись и нередко отвергает его. И, тем не менее, для К. Павловой её святое ремесло совершенно необходимо. Она без него не обойдётся. Как А. Пушкин, К. Павлова поставила ряд проблем, связанных с поэтическим творчеством, и по мере сил пыталась решить их. Эти проблемы соотношения вдохновения и труда в поэтическом творчестве, взаимоотношения поэта и читателя, поэта и мира волновали поэтов XIX века.
Поэты XX века А. Ахматова и М. Цветаева, следуя традиции, не только попытались по-новому решить эти проблемы, но существенно расширили их круг. Ахматова посвятила проблемам творчества ряд стихотворений. В одном из них она сказала: "Наше священное ремесло / Существует тысячи лет…". Для К. Павловой ремесло поэта - святое, для А. Ахматовой - священное. Так, при помощи синонимичных эпитетов, означающих вмешательство божественной воли и благодати, поэтический труд отделяют они от всякого другого ремесла или труда, в божественной воле и благодати не нуждающихся, но нуждающихся в навыках, терпении и искусном применении орудий труда. Ахматова пишет: "Мне ни к чему одические рати / И прелесть элегических затей. / По мне, в стихах всё быть должно некстати, / Не так, как у людей". А как у людей?
Объяснение находим в статье Ахматовой "О стихах Н. Львовой": "Мне кажется, что Н. Львова ломала своё нежное дарование, заставляя себя писать рондо, газеллы, сонеты. Конечно, и женщинам доступно высокое мастерство формы, пример - Каролина Павлова, но их сила не в этом, а в умении полно выразить самое интимное и чудесно-простое в себе и в окружающем мире. А всё, что связывает свободное развитие лирического чувства, всё, что заставляет предугадывать дальнейшее там, где должна быть неожиданность, - очень опасно для молодого поэта. Оно или пригнетает мысль, или искушает возможностью обойтись совсем без мысли" . Это высказывание Ахматовой - спорное, но в нём выражено главное для неё: лирик должен быть свободен от канонов жанра, и, если он не свободен, то теряет в свежести выражения чувств и непосредственности. Лирическое чувство должно само собой принять нужную форму. У Ахматовой стихи не рождаются, не появляются, не пишутся в общепринятом смысле слова, они - растут. Она, иронически усмехаясь, откровенно поведала, из чего они растут: "Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда, / Как жёлтый одуванчик у забора, / Как лопухи и лебеда". В следующей строфе она поясняет, что это за "сор": "Сердитый окрик, дёгтя запах свежий, / Таинственная плесень на стене". Все явления мира, не обязательно возвышенные, а порою просто ничтожные, могут дать толчок росту стихотворения. А. Ахматова не боится предстать перед читателем лишённой романтического взгляда на мир. Она говорит - в лоб, она скорее исповедует своего рода "лирический цинизм" (выражение Цветаевой), но зато она говорит - правду о творчестве. Однако это не вся - правда. По поводу своей "Поэме без героя" Ахматова обронит, что в ней "…ничто не сказано в лоб" . Из сора ли растут стихи, из возвышенных ли идей и чувств, тайна всё равно остаётся. Разве перечень случайных причин: сердитый окрик, запах дёгтя, плесень на стене что-нибудь объясняет? Этот перечень можно продолжать до бесконечности, но тайну роста стихотворения он не объяснит.
Каким было отношение А. Ахматовой к читателю? Если А. Ахматова говорит о стихотворении, что оно растёт из всякого сора, и, стало быть, никакой в этом особой тайны нет, то читатель для неё, "…как тайна, / Как в землю закопанный клад", "…поэта неведомый друг". А. Ахматова вроде бы отказывает творчеству в тайне. Тайна для неё - человек читающий. Она призывает читателя к взаимной исповеди: Поэт исповедуется читателю, читатель - стиху. Отношения поэта и читателя должны быть исполнены теплоты и взаимного доверия. А. Ахматова не отрицает возможности разного толкования произведений: "Конечно, каждое сколько-нибудь значительное произведение искусства можно (и должно) толковать по-разному (тем более относится к шедеврам) .
А. Ахматова читателя уважает и любит и ждёт от него ответного чувства. Однако, возвращаясь к тайне творчества, надо сказать, что А. Ахматова утверждает, что творческий импульс, побуждающий её писать (выращивать!) стихотворения, находится вне её личного сознания: "Неузнанных и пленных голосов / Мне чудятся и жалобы и стоны, / Сужается какой-то тайный круг, / Но в этой бездне шёпотов и звонов / Встаёт один, всё победивший звук". А. Ахматова, в отличие от К. Павловой, не настаивает на том, что создание стихотворений есть тяжёлый труд. Дело поэта - слушать голоса и записывать то, что слышишь. Слушать можно кого угодно и что угодно, например, лес или музыку: "Подумаешь, тоже работа, беспечное наше житьё: / Подслушать у музыки что-то / И выдать шутя за своё". Лёгкая ирония окрашивает эти строки. А. Ахматова не терпит пафоса, когда говорит о процессе сочинения стихотворений. Итак, поэту слышатся голоса, один из них становится доминирующим, слышатся слова, "звоночки рифм": "Тогда я начинаю понимать, / И просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь". Весь труд поэта - услышать, выделить главный голос, понять и записать под диктовку. Диктует поэтам Муза: "Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала / Страницы Ада?" / Отвечает: "Я".
А. Ахматова неоднократно и настойчиво подчёркивала, что пишет стихотворения не сама, а ей их диктуют: "…мне приходит в голову, что мне её действительно кто-то продиктовал, причём приберёг лучшие строфы под конец. Особенно меня убеждает в этом та демонская лёгкость, о которой я писала Поэму: редчайшие рифмы просто висели на кончике карандаша, важнейшие повороты слова сами выступали из бумаги" . Но лёгкость создания стихотворений и поэм есть мнимая лёгкость. Это лёгкость выматывает поэта, ибо требует напряжения всех физических и душевных сил. Однажды Ахматовой, заболевшей и пролежавшей несколько дней в тишине и одиночестве, навестивший её почитатель сказал, что, должно быть, она много написала в эти дни. Но это Ахматова ответила, что в таком состоянии писать стихотворения невозможно, поскольку для этого требуется много физических сил. Как А. Ахматова относилась к славе? Славу она познала рано. К 1917 году её имя было у всех на устах. Затем пришлось пережить и забвение, и хулу. И к славе, и к забвению, и к хуле она относилась философски.
М. Цветаева начала размышлять над вопросами творчества в 10-е годы. Её интересует, что есть поэзия, кто есть поэт, какое место он занимает в обществе, как общество относится к поэту. М. Цветаева назвала одну из своих книг "Ремесло", но без эпитета - святое. Это у К. Павловой ремесло - святое, то у М. Цветаевой ремесло как ремесло, а вот лира как символ вдохновения - божественная: "Нам знакомо иное рвение: / Лёгкий огнь, над кудрями пляшущий, - / Дуновение - вдохновения!". Однако заметим - дуновение. Вдохновение не может быть постоянным и стабильным состоянием души. Что касается тайны творчества, то если у А. Ахматовой стихотворения диктует поэту Муза, то у М. Цветаевой процесс творчества есть тоже диктовка. Она пишет Е. А. Черносвитовой, секретарю Р. М. Рильке: "Хотите одну правду о стихах? Всякая строчка - сотрудничество с "высшими силами", и поэт - много, если секретарь! - Думали ли Вы, кстати, о прекрасности этого слова: секретарь (secret)?" . Цветаева говорила о процессе творчества: "Состояние творчества есть состояние наваждения. <…> Что-то, кто-то в тебя вселяется" . В очерке "Поэт о критике" она пишет: "Слушаюсь я чего-то постоянно, но не равномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда указующего - спорю, когда приказующего - повинуюсь. <> Указующее - слуховая дорога к стиху: Слышу напев, слов не слышу. Слов ищу. <> Верно услышать - вот моя забота. У меня нет другой". .
И Ахматова и Цветаева утверждают иррациональную природу творчества. Ахматова прибегает при этом к классическому образу античной Музы-вдохновительницы, диктующей поэту стихотворения. Цветаева избегает уточнения, кто именно "вселяется" в поэта и диктует ему. Ясно, что это высшая по отношению к человеку сила, как бы она ни называлась. Цветаева как-то сделала предположение, что этой высшей силой могут быть уже умершие поэты, душа которых живёт в ином мире. В любом случае поэт, по мнению А. Ахматовой и М. Цветаевой, есть только посредник. Философ И. Ильин писал: "Но всё, что они создают, эти созерцающие поэты всё идёт не от них самих, а через них. Все создания их больше их самих. Ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосути мира" . Поэт, будучи посредником, в равной степени принадлежит земному и иному миру. К. Павлова пишет о себе: "Ты, с ясным взглядом херувима, // Дочь неба, сердца не тревожь!". М. Цветаева вторит: "Пляшущим шагом прошла по земле! - Неба дочь!". Поэт есть посланец небес. Истоки этого образа можно обнаружить в немецкой поэзии. В стихотворении Ф. Шиллера "Раздел земли" поэту не досталось ни клочка земли, потому что пока шёл раздел, поэт был занят, он творил. И тогда Зевс отдаёт поэту во владение всё небо. До Ф. Шиллера поэту не было места на небесах. Ни Орфей, ни Гомер, ни Вергилий не были причислены к сонму богов. В Средние века мысль о божественном происхождении поэта показалась бы кощунственной. Идея о божественном происхождении поэта принадлежит романтикам. В записной книжке М. Цветаевой от 1941 года есть запись о природе творчества, которое не поддаётся ни планированию, ни прогнозированию, ни расчётам разума, ибо оно есть наитие стихий, или идей, а ещё точнее - Дух дышит, где хочет и когда хочет. И никому из смертных не дано знать, где и когда он себя проявит. Но проявляет себя он через избранников Божьих. М. Цветаева признаётся: "- С Богом! (или) - Господи, дай! - так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий перевод <…> Я никогда не просила у Бога - рифмы (это - моё дело), я просила у Бога - силы найти её, силы на это мучение . Не: - Дай, Господи, рифму! - а: - Дай, Господи, силы найти эту рифму, силы - на эту муку. И это мне Бог - давал, подавал" . Стихия или идея захватывает, Бог подаёт силы, человек воплощает.
В стихах М. Цветаевой выступит вперёд образ поэта-пахаря, знакомый нам по стихотворениям К. Павловой: "В поте - пишущий, в поте - пашущий!". Пот как следствие тяжкого труда. Дуновение вдохновения и труд, вот формула М. Цветаевой. Каков характер этого труда? Прежде всего, это поиск слов и рифм. Можно ли при отсутствии вдохновения одним только трудом создавать стихотворения? Можно, утверждает М. Цветаева и указывает на В. Брюсова, который, по её мнению, был поэтом труда. Этому явлению М. Цветаева посвятила очерк о В. Брюсове, который так и назвала - "Герой труда": "У него не было данных стать поэтом (данные - рождение), он им стал" . Но только ли труд поэта - слушать, записывать, искать слова и рифмы? М. Цветаева в статье "Поэт о критике" (1926) скажет: "Кого я слушаю, кроме голоса природы и мудрости? Голос всех мастеровых и мастеров" . Поэт должен много знать. Получение досконального знания о предмете есть также часть труда поэта.
В 20-е годы мироощущение М. Цветаевой под влиянием внешних обстоятельств изменилось. Романтический строй её души претерпел изменения. Неприглядная действительность (революция, гражданская война, голод, холод, разруха) властно и грубо рвёт струны романтически настроенной лиры М. Цветаевой. Её мысли о поэте и поэтическом труде становятся углублённее. В стихотворении "Разговор с гением" идёт диалог между поэтом, который больше не может писать, и лирической героиней, убеждающей его, что писать можно и нужно всегда, при любых обстоятельствах. Другими словами, диалог имеет место в душе самой М. Цветаевой: между нею - поэтом, и ею же - человеком. Человек в поэте выносливее, стойче, сильнее. Когда поэт изнемогает, человек его поддерживает, приободряет. К. Павлова писала, что не вправе духом пасть. М. Цветаева в цепи доказательств, что поэт не вправе духом пасть, приводит такой аргумент: "Хрипи: // Тоже ведь звук! // Львов, а не жён // Дело". - "Детей: // Распотрошён - // Пел же Орфей!". // "Так и в гробу?" // "И под доской". // "Петь не могу" // "Это воспой!". Романтический флёр безжалостно сдёрнут.
В цикле стихотворений "Стол" тема труда и вдохновения преобладают. Стол - рабочее место поэта. Стол и поэт знают цену поэтического труда и взлёт вдохновения: "К себе пригвоздив чуть свет - // Спасибо за то, что вслед // Срывался!", "В грудь въевшийся край стола", "Я знаю твои морщины, // Изъяны, рубцы, зубцы - // Малейшую из зазубрин! // Зубами - коль стих не шёл". Зубами, это когда крылья вдохновения не поднимают поэта над землёй. Крылья вдохновения у поэта есть всегда, но иногда они слабы. Иногда действительность подрезает их. Но без крыльев поэт - не поэт: "А меня положат голую: два крыла прикрытием". Понимание, что поэзия и жизнь не находятся в гармоническом единстве, приводило К. Павлову к мучительным сомнениям в необходимости поэтического дара. М. Цветаева этих сомнений не знает. Она твёрдо убеждена, что красота есть вещь бесполезная в хозяйстве, в общественной и семейной жизни. Из прекрасного (поэзии, в частности) нельзя извлечь сиюминутную выгоду. Прекрасное нельзя продать, купить, обменять, и. т. п. Отношение некоторой части людей к прекрасному как явлению бесполезному автоматически переносится на творцов красоты. Поэт (живописец, композитор) объявляется существом бесполезным для делового общества, и, следовательно, не нужным и не должным быть. Эту мысль М. Цветаева разовьёт в цикле стихотворений "Поэт". Вдохновение поэта не вписывается в календарь. Раньше М. Цветаева утверждала, что мир вечен. Но мир оказался неустойчив, непрочен, и поэт в этот мир тоже не вписывается: "Есть в мире лишние, добавочные, // Не вписанные в окоём, // Не числящиеся в ваших справочниках, Им свалочная яма - дом". Недоуменным и горьким восклицанием заканчивается третье стихотворение цикла: "Что же мне делать, певцу и первенцу, // В мире, где наичернейший - сер!". Лишний и добавочный и пишет "для никого" (К. Павлова). В главе "Для кого я пишу" очерка "Поэт о критике" М. Цветаева подхватывает: "Не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь, путём меня, сама себя пишет. До других ли, и до себя ли?" . Но М. Цветаева не может смириться, что поэт обществу не нужен, что он бесполезен. Сегодняшнему обществу не нужен, будет нужен грядущему: "Не нужен твой стих - // Как бабушкин сон. - // А мы для иных сновидим времён", "А быть или нет // Стихам на Руси // Потоки спроси, // Потомков спроси".
К. Павлова не коснулась темы - как пишутся стихи. М. Цветаева констатировала: "Стихи растут, как звёзды и как розы, // Как красота, не нужная в семье". Стихи растут, и в этом М. Цветаева солидарна с А. Ахматовой. Правда, у А. Ахматовой стихотворения "растут из". А. Ахматова называет источник возникновения стихотворения. У М. Цветаевой стихи "растут как". М. Цветаева сопоставляет рост стихотворения с ростом детей (звёзды) и цветка.
Общая для К. Павловой и М. Цветаевой и А. Ахматовой мысль: поэзия это не одно только вдохновение, но и тяжкий труд. Судьба поэта, вселенского гостя, посланника небес, недолжного и ненужного в мире, как правило, трагична. Трагичность судьбы поэта - норма в мире мер и весов. Единственно, в чём М. Цветаева не согласилась с К. Павловой, так это в том, что есть тип поэта-в-душе. У этих людей, тонких, впечатлительных, чувствительных, романтически настроенных, процесс вслушиванья в мир не заканчивается процессом создания стихотворения. К. Павлова этим людям льстит, называя их поэтами-в-душе. М. Цветаева смотрит на проблему жёстко: "Равенство души и глагола - вот поэт. Посему - ни не-пишущих поэтов, ни не-чувствующих поэтов. Чувствуешь, но не пишешь - не поэт (где же слово?), пишешь, но не чувствуешь - не поэт (где же душа?)" . Впрочем, свою жёсткость М. Цветаева несколько смягчает: "Естественно, что не пишущего, но чувствующего, предпочту не чувствующему, но пишущему. Первый может быть поэт - завтра. Или завтрашний святой. Или герой. Второй - вообще ничто. И имя ему - легион" . М. Цветаева позавидует, в конце концов, тем, кто не умеет писать, но умеет плакать: "Есть счастливцы и счастливицы // Петь н е могущие. // Им - слёзы лить! // Как сладко вылиться // Горю - ливнем проливным! // Чтоб под камнем что-то дрогнуло. // Мне ж призванье, как иметь! - // Меж стенания надгробного // Долг повелевает - петь". Быть поэтом не только призвание, но и долг. Поэтический дар - не только счастье, но и бремя, от которого нельзя избавиться. Более того, поэтический дар исключает другие дары, доступные обыкновенным людям: дом, богатство, благополучие, семейное счастье, покой. "Ибо раз голос тебе поэт // Дан, остальное - взято".
Загадочно утверждение М. Цветаевой: "Мы спим, // И вот - сквозь каменные плиты // Небесный гость в четыре лепестка. // О, мир, пойми! Певцом - во сне открыты // Закон звезды и формула цветка". Почему небесный гость - цветок - растёт, пока мы спим? Почему закон звезды, т. е. рост ребёнка и формула цветка, тоже рост, певцом открыты - во сне? Что есть сон в понимании М. Цветаевой? Не является ли сон у неё каким-то особым состоянием бодрствования, когда мысль, отвлечённая будничностью вроде бы бездействует, т. е. "спит", но в подсознании тайно совершается работа - рост стихотворения? Настоящая жизнь и настоящее бодрствование для поэта начинается тогда, когда он творит, но "спит" для будничной жизни. У А. Пушкина ведь тоже: "Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон, // В заботы будничные света // Он малодушно погружён. // Молчит его святая лира, // Душа вкушает сладкий сон". У М. Цветаевой есть строки: "Восхищенной и восхищённой, // Сны видящей средь бела дня, // Все спящей видели меня, // Никто меня не видел сонной. // И оттого, что целый день // Сны проплывают пред глазами, // Уж ночью мне ложиться - лень, // И вот - тоскующая тень, // Стою над спящими друзьями". Сон поэта - условный сон наяву. Это состояние вслушивания в себя, когда мысль тайно работает, творит, созидает. Это сомнамбулический сон. Это способ оградить себя от грубости жизни. В сентябре 1923 г. М. Цветаева признаётся критику А. Бахраху: "Я ободранный человек, а вы все в броне. <…> Я ни в одну форму не умещаюсь - даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Всё не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится" . Цветаевское "мы спим" на самом деле означает - "мы действуем, творим" и в это время отсутствуем для мира. У К. Павловой есть строка "…счастье предаваться снам". Не спать же в обычном смысле этого слова, а мечтать, грезить, творить.
Итак, поэзия есть особого рода "святое ремесло", которое создаётся вдохновением и трудом. Вдохновение даётся свыше, это особое состояние наваждения и творческого сна наяву. Труд - поэта и состоит он в основном в познании мира. Поэт одновременно избранник небес и изгой общества. Поэт - орудие самопознания мира, посредник между небом и землёй. Стихи пишутся не ради славы или денег, а ради них самих. Мир во всём его многообразии есть источник поэзии. Не форма определяет содержание стихотворения, а содержание выливается в определённую форму. Поэт не есть только творец, но одновременно мыслитель.
Литература
1. Ахматова А. Тайны ремесла. - М.: Советская Россия, 1985.
2. Ильин И. Путь к очевидности. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1998.
3. Коржавин Н. Анна Ахматова и "Серебряный век" // Новый мир. - 1989. № 7.
4. Павлова К. Стихотворения. - М.: "Советская Россия", 1985.
5. Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. - М.: Эллис Лак, 1995.
6. Цветаева М. И. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в одном томе. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008.
7. Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. - М.: Эллис Лак, 1994.