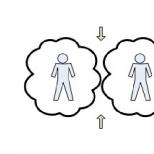Истории выживших евреев. Историк евгений беркович о примечательных случаях спасения евреев в годы холокоста
27 января — официальная международная дата памяти жертв Холокоста. Мы, рожденные евреями, знаем об этом уничтожении не просто из книг и кинолент минувших дней. Многие из наших родственников навсегда остались висеть на деревьях и лежать в ярах, были спалены в камерах огнем и газом только потому, что родились евреями. Но мы помним не только об ушедших. Мы знаем живых, чудесным образом выживших и спасенных в этой Катастрофе!
Война застала Наума в его родном местечке Черкасской области Украины. Ему было всего 14 лет.
Красная армия отступала с такой стремительностью, что большинство населения сел и городов не успевала уходить вместе с ней, да и некуда было уходить…
Меньше всего семья Верещатских ожидала увидеть то, что увидела. Полсела их было еврейским. Немцы заняли село, но, как и многие советские евреи, их односельчане считали немцев высокообразованной нацией, не приносящей другим никакого вреда. Старые евреи помнили Первую Мировую и радушных немецких солдат, которых они тогда встречали.
 Но на этот раз все было по-другому. Всех евреев местечка арестовали и перевели в гетто, где немцы вместе с местными полицаями не скрывали своих истинных намерений.
Но на этот раз все было по-другому. Всех евреев местечка арестовали и перевели в гетто, где немцы вместе с местными полицаями не скрывали своих истинных намерений.
Стоит отметить, что прямо перед войной Наум видел интересный сон. В нем старый грубый мужик с топором в руках гонится за Наумом, а тот бежит и кричит: «Помилуй! Помилуй! Спаси!» Вдруг он падает возле дверей православного храма, и этот мужик заносит топор над ним, чтобы убить. Наум поднимает голову в небо, закрываясь руками, как вдруг с неба слышится громкий, пронзающий все голос: «Не прикасайся! Это Мой сын, ты не сделаешь ему зла!» .
Наум часто вспоминал этот сон, но гетто – вот оно, а где же тот сон? И где же тот голос, который спас его во сне?
Наступил последний, кровавый, вечер гетто. Один из охранников знал мать Наума и попробовал ей помочь. Но он смог вывести только двоих из ее детей: Наума и его младшего брата Яшу. Спрятавшись в старом туалете, они видели расстрел всех оставшихся 404 евреев своего села. А до кого не долетела пуля – порубали шашками.
Наум и Яша бежали из своего села, пока были силы. Увидев на каком-то краю поля избу, ночью мы постучались туда. Вышла женщина: «Вам чего?» «Тетя, спасите, там нас, евреев, убивают» , — прошептал Наум. Женщина с большим нежеланием впустила их в дом, но на рассвете разбудила, дала хлеба, приложила икону, прочитав «Отче наш» и «Храни вас Бог» — и закрыла за ними дверь.
Счастье кончилось буквально через два дня: их словила личная охрана старшего полицая соседней области. Брата Яшу убили, а Наума притащили к самому полицаю. По какой-то никому не известной причине, его жена упросила мужа дать этому «жиду» остаться жить у них, чтобы смотрел за их свиньями.
Все время жизни в доме полицая Наум вспоминал свой сон. «Что же это за Бог такой, что мне приснился?» — думал Наум, который, как и все обычные евреи СССР, в Бога не верил и в синагогу не ходил.
Так прошло три года. В 1944 году их район освободила Красная армия, а все сотрудничавшие с полицией и немецкой армией были арестованы и подлежали уничтожению. Наум, как личный свинопас, тоже попал под суд, и не просто попал, а получил высшую меру – смертный приговор, расстрел!
На вопрос судьи «Что ты имеешь сказать напоследок?» Наум, увидев, что судья – тоже еврейка, обратился к ней на идиш и рассказал всю свою историю. Судья изменилась в лице и вышла из зала, а вернувшись, заменила расстрел на 10 лет сталинских лагерей.
В Сибири Науму тоже повезло: старший вор в его камере узнал, что он из соседнего с ним села. Обсудив соседей и родные места, поделившись друг с другом своими историями, они расстались почти друзьями: этот вор «в законе» взял Наума под свое «крыло» на все 10 лет его пребывания в лагере.
Выйдя из тюрьмы в 1954 г., Наум столкнулся с большими сложностями при устройстве на работу: зек со статьей, предатель народа – кому ты нужен? Но, в конце концов, он устроился к одному еврею, который обучил его, и Наум всю оставшуюся жизнь проработал мясником.
Встретил я Наума в церкви «Победа» во время свидетельств об исцелении: он вышел на сцену и попросил пастора прямо там помолиться за его ноги. Он пришел в церковь как обычный неверующий человек, а услышав, что там молятся за здоровье, не раздумывая, пошел прямо на сцену. Я в это время сидел в зале и после собрания подошел к Науму, так мы и познакомились, он рассказал мне свою историю.
После нашего знакомства мы продолжали общаться. Наум встречался со мной, чтобы изучать Писания, по возможности посещал все наши шабаты. А в течение нескольких месяцев после этого Наум принял Христа как своего Спасителя. Наум узнал наконец-то, что это за голос говорил к нему во сне, и понял, что Иисус – Сын Божий. Наум умер в вере, очищенный, читающий Библию и знающий своего Спасителя, Который обещал сохранить своего сына от всякого зла.
Осень 1941 года для Ульяны началась с прощания со своей лучшей подругой Ривой, тетей Соней и всей ее семьей.
В город вошли немецкие войска. Всем евреям Киева было объявлено собраться в определенном месте, известном нам сейчас как Бабий Яр.
«Мы едем в Палестину!» — радостно завизжала Рива, увидев свою подругу Ульяну. «Ты придешь меня провожать?»
 В те времена среди тысяч киевских евреев пронесся слух, что немцы отправят всех их в Палестину. Правда, были и те, кто говорил, что отправят их в Германию.
В те времена среди тысяч киевских евреев пронесся слух, что немцы отправят всех их в Палестину. Правда, были и те, кто говорил, что отправят их в Германию.
Евреи СССР не боялись немцев, ведь еще с Первой Мировой войны старые евреи говорили всем, что немцы – народ цивилизованный и никому не сделают ничего плохого.
Ульяна пришла на место сбора. Огромная серо-черная колонна, тысячи людей шли пешком, ехали на повозках…
А Рива все приговаривала: «Уля, ты мне точно записала свой адрес, чтобы я могла тебе писать оттуда?» «Да, да, Рива, все правильно, не волнуйся! Как приедешь – сразу напиши».
«Уля, а почему вы не едете? Ведь твоя мама тоже еврейка, как и моя?» «Мы бы тоже поехали с Вами» , — отвечала Ульяна, «но мама всех нас записала в паспорте украинцами, по национальности нашего папы. А сама мама пока не хочет в Палестину без нас» , — так девочки продолжали беседу, а колона медленно продвигалась вперед.
Вдруг колонну окружили вооруженные люди и стали грубо расталкивать людей. И тут Ульяна поняла, что никакая это не отправка в Палестину. Но что делать? Куда бежать? Ее дернули за руку, кого-то рядом ударили, кому-то порвали кофту… Картина прощания превратилось в побоище. Ульяна уже давно потеряла Риву, а еще через минуту оказалась среди полураздетых людей, где стоял страшный рев, проклятья и ругань. А в голове только одна мысль: «Боже, что это? Я хочу жить, мне же только шестнадцать!»
Изо всех сил Ульяна бросилась к человеку в черном с белой повязкой на руке, который говорил по-украински, крича «Отпустите меня!» На счастье, паспорт был у нее кармане, ведь она только накануне, в день своего 16-летия, получила его и теперь носила с собой везде, очень гордясь этим документом. И только прочитав в графе «национальность» слово «украинка», человек в черном крикнул ей прямо в лицо: «Убирайся вон и не смей никому рассказать, что видела!»
Ульяна бежала домой изо всех сил, а колона продолжала двигаться к месту пропасти, и она понимала, что этих людей ждет беда. Страх и слезы так душили девочку, что она ничего не могла им сказать, этим тысячам людей, идущих за какой-то новой обещанной надеждой…
Подписывайтесь:
Прибежав домой, она тут же рассказала обо всем маме, брату и сестрам. Всей семьей они тут же уничтожили паспорт своей мамы с ее «пятой графой» и, оборудовав погреб, спрятали маму там. Пол войны она просидела в этом погребе, благо он был теплый, а соседи попались добрые и не выдали ни маму, ни ее детей.
В 90-х Ульяна пришла к вере в Иисуса, читая Писания. Она поняла, почему дьявол пытался уничтожить евреев, и теперь безмерно благодарна Богу за то, что Он спас ее и физически, и духовно.
От Редколлегии.
В День памяти жертв Холокоста издательство "Аргументы и факты" опубликовало беседу с двумя людьми, уцелевшими в Холокосте: Борисом Сребником и Анатолием Кочеровым. Полностью воспоминания этих людей и мамы Анатолия о днях, проведенных в оккупации, опубликованы здесь:
- Римма Кочерова. Каждый день мог стать последним... (посмертная публикация).
Уроки холокоста: воспоминания очевидцев о трагедии
(АиФ 27.01.13)
Людмила Алексеева, Кристина Фарберова
Корреспонденты АиФ.ru встретились с людьми, выжившими в самых крупных гетто.
Известному экономисту, профессору Борису Сребнику, каждую ночь снится война. «Выстрелы, крики, я куда-то бегу и все ощупываю себя: не ранен ли?». Борис Владимирович посещал психотерапевтов, но все бесполезно - говорят, эти воспоминания не вытравить ничем.
Больше двух лет он прожил в минском гетто - самом крупном на территории бывшего СССР. Оккупанты разместили там больше ста тысяч российских и немецких евреев. Постепенно уничтожили всех, за редкими исключениями.
Погром начинается с кладбища
В комнате Бориса Сребника стоит старинная фотография - молодой,
улыбчивый парень, одетый в театральный костюм. Это практически начало
его семейного архива - снимков родных или собственного детства у него не
осталось. Когда началась война, Борису было семь. Немецкая армия заняла Минск уже в конце июня. Сразу же издали приказ
коменданта: всем евреям собрать носильные вещи и пройти в дома на
указанных в письме улицах. В случае неповиновения - расстрел. После
переселения оккупанты приказали обнести район стеной - строить ее должны
сами узники нового гетто. Выходить из гетто не разрешалось. Остатки
ценностей и одежды тайком меняли у местных жителей, подходивших с другой
стороны колючей ограды. На картошку, муку - они уже стали предметом
роскоши.
Немецкая армия заняла Минск уже в конце июня. Сразу же издали приказ
коменданта: всем евреям собрать носильные вещи и пройти в дома на
указанных в письме улицах. В случае неповиновения - расстрел. После
переселения оккупанты приказали обнести район стеной - строить ее должны
сами узники нового гетто. Выходить из гетто не разрешалось. Остатки
ценностей и одежды тайком меняли у местных жителей, подходивших с другой
стороны колючей ограды. На картошку, муку - они уже стали предметом
роскоши.
Осенью начались погромы - оккупанты выбирали один из районов и полностью уничтожали всех его жителей. Первый погром провели 7 ноября, но слухи о нем появились гораздо раньше. Борис с родными жил в большом доме у старинного еврейского кладбища. Старшие члены семьи рассудили, что погромы должны начаться именно отсюда: чтобы трупы далеко не везти. Семья отправилась ночевать к знакомым, на Хлебную улицу. Но, оказалось, начать решили именно оттуда.
«Рано утром нас всех выгнали во двор старого хлебозавода, выстраивали в
длинные очереди, сажали в машины и увозили в неизвестном направлении.
Автомобили возвращались пустыми». «Я помню эту очередь, помню, каким был уставшим, и мне очень хотелось
сесть уже в машину, покататься. Я просил об это маму, но как только
подходил наш черед, она кричала, что ее муж работает в лагере
специалистов. Мужчин „с профессией“ из гетто забрали и поселили
отдельно. По колонне прошел слух, что членов их семей не будут забирать.
Мама кричала, ее били прикладами, но она мужественно оттаскивала меня в
хвост очереди. И так несколько раз. А потом начало темнеть, закончился
рабочий день и немцы остановили погром. Они народ основательный -
работали четко по расписанию».
«Я помню эту очередь, помню, каким был уставшим, и мне очень хотелось
сесть уже в машину, покататься. Я просил об это маму, но как только
подходил наш черед, она кричала, что ее муж работает в лагере
специалистов. Мужчин „с профессией“ из гетто забрали и поселили
отдельно. По колонне прошел слух, что членов их семей не будут забирать.
Мама кричала, ее били прикладами, но она мужественно оттаскивала меня в
хвост очереди. И так несколько раз. А потом начало темнеть, закончился
рабочий день и немцы остановили погром. Они народ основательный -
работали четко по расписанию».
Из тех, кого увезли на машинах, в гетто больше никто не вернулся.
Жизнь в «малинах»
Скоро не стало и мамы Бориса - она тайно отправилась в русский квартал,
к знакомым: уговорить, чтобы они забрали сына. На тот момент он был
светловолосым и почти не имел выраженных еврейских черт. В гетто его
мама не вернулась - ее узнал полицейский, выдал немецким солдатам.
Помимо погромов, существовали и облавы: вламывались в дом, забирали
выборочно, по определенным признакам. Например, только подростков. Так
Борис лишился старшего брата.
В гетто не отмечали праздников - все позабыли о собственных днях
рождения. Главной радостью были встречи после погрома, люди выбегали на
улицу, приветствовали знакомых, оставшихся в живых. Трогали друг друга,
поздравляли. Очень скоро немцы потребовали отдать все теплые вещи - единственную
валюту, на которую можно было купить продукты у местных жителей. В домах
стали организовывать «малины» - вырывали в полу ямы, куда прятали всю
целую одежду, сверху накидывали тряпья, задвигали кроватью - часто
единственной на комнату. А проживало там обычно 15–20 человек. Там же в
случае погромов прятались. Вход присыпали махоркой. «Я помню, однажды
все в очередной раз сидели в таком убежище, вырытым под кладбищем, в
страхе, панике и жуткой тишине.
Очень скоро немцы потребовали отдать все теплые вещи - единственную
валюту, на которую можно было купить продукты у местных жителей. В домах
стали организовывать «малины» - вырывали в полу ямы, куда прятали всю
целую одежду, сверху накидывали тряпья, задвигали кроватью - часто
единственной на комнату. А проживало там обычно 15–20 человек. Там же в
случае погромов прятались. Вход присыпали махоркой. «Я помню, однажды
все в очередной раз сидели в таком убежище, вырытым под кладбищем, в
страхе, панике и жуткой тишине.
У кого-то начал плакать ребенок, все начали шикать. Но младенец очень быстро замолчал. Не уверен, но кажется, его задушили. Ради спасения других».
Есть хотелось больше, чем жить
К концу 41 года вещей не осталось, есть было нечего. Начинался голод,
который вкупе с суровой зимой работал не хуже организованных погромов.
«Идет человек, от голода весь опухший, раздувшийся, и на ходу как бревно
какое-то падает. Секунда - и его не стало», - вспоминает Борис.
Мальчишками они прятались за кладбищенскими памятниками и смотрели, как
расстреливают военнопленных. Однажды рядом с пленными внезапно упала и
умерла лошадь: измученные люди бросились к ней, руками раздирали и
поедали плоть. Немцы стреляли, угрожали, но от лошади никто не отошел по
своей воле. Борис показывает следы на руках - шрамы от колючей проволоки. Вместе с
другом Маиком они начали совершать вылазки из гетто. Это было запрещено
под страхом смерти, но есть хотелось больше, чем жить. Побирались у
местного населения, искали на помойках. Добывали гнилые картофелины,
вялые капустные листы - кому-то мусор, а кому-то - щи.
Борис показывает следы на руках - шрамы от колючей проволоки. Вместе с
другом Маиком они начали совершать вылазки из гетто. Это было запрещено
под страхом смерти, но есть хотелось больше, чем жить. Побирались у
местного населения, искали на помойках. Добывали гнилые картофелины,
вялые капустные листы - кому-то мусор, а кому-то - щи.
«Страшнее всего было, что выдадут. Мы пробирались по разрушенному Минску, за нами бежали белорусские мальчики и кричали „Жидята!“. К нам тут же подходили полицейские и требовали снять штаны. Спасало то, что мы были не обрезанные. Нас отпускали».
Местное население евреев своими союзниками не считали - первый еврейский
партизанский отряд появился только в 1942 году. Наоборот, оголодавшие
белорусы устраивали набеги на гетто - требовали драгоценности, потому
что «у жидов же всегда есть золото». Чтобы защититься, рядом с каждым
домом вешали рельс, при появлении мародеров с его помощью били тревогу,
вызывали охрану гетто. С мародерами немецкие солдаты расправлялись
беспощадно - право на насилие они признавали только за собой. Военная
ревность. «А одного мародера, захваченного прямо в нашем доме, было
ужасно жалко», - вспоминает Борис. На его глазах ежедневно кого-нибудь убивали. Он жил рядом с кладбищем.
Трупы привозили и сбрасывали в огромные ямы. Иногда среди них были еще
живые, но раненые люди. Ямы, чуть присыпанные землей, шевелились.
Подойти, найти, помочь - страшно и почти непосильно.
На его глазах ежедневно кого-нибудь убивали. Он жил рядом с кладбищем.
Трупы привозили и сбрасывали в огромные ямы. Иногда среди них были еще
живые, но раненые люди. Ямы, чуть присыпанные землей, шевелились.
Подойти, найти, помочь - страшно и почти непосильно.
Еврейские партизаны
Люди умирали, гетто сужалось, выживших переселяли в другие дома.
Отдельно поселили около 30 тысяч евреев из Германии, местные называли их
«гамбургскими»: говорили, им пообещали, что депортируют в Палестину,
сказали, взять с собой только ценности. Это гетто не просуществовали и
года - всех уничтожили за короткий срок.
В белорусском гетто погромы устраивали все чаще. Борис никогда не ходил
за территорию гетто один, только с другом Маиком, но однажды утром Маик
идти отказался: у него была порвана обувь. «Мне ужасно не хотелось
уходить просит милостыню, я чувствовал, что иду, как на Голгофу, -
вспоминает Борис Владимирович. - Но еда была нужна, не мог отказаться.
Вернулся вечером на пустое место - гетто уничтожили окончательно, всех,
кто там был, убили».
Восьмилетний Борис был в отчаянии, шел по городу с твердым намерением
сдаться: не представлял, как и где жить одному. Внезапно встретил
знакомых, Иосифа Левина и его младшую сестру Майю, переживших погром
гетто. Иосиф знал, как пройти к партизанам. Три дня они искали по городу
выживших евреев - набралось 10 человек, все - дети и подростки.
Направились в лес. Придумали даже стратегию: идти попарно, на отдалении
друг от друга, оккупантам говорить, что направляются в деревню к родным.
Шли босые, голодные, скоро остались почти без одежды - забирали
деревенские мальчики, у них не было и того. Ссорились и между собой. «Мы
же были дети», - вспоминает Борис. Однажды после ночевки отряд ушел,
оставив его спящим - самого маленького воспринимали как обузу. Борис
проснулся, кричал, плакал. Потом побежал. Чудом оказалось, что в верном
направлении. Догнал.
«Когда мы через трое суток подошли к партизанской зоне, был конец дня,
уже заходило солнце, - вспоминает Борис. - Внезапно из кустов выходят
полицейские в форме, молодые ребята, мы начинаем им рассказывать свои
басни, они в ответ: знаем, вы жиды, сейчас будем вас расстреливать. И
поставили к кустарникам лицом, начали щелкать затворами. Никто не
плакал, не просил отпустить. Помню только свою горькую детскую обиду: на
кой-черт было столько лет мучиться, чтобы вот так закончить. А потом они
сказали: шутка, ребята, мы партизаны. Никто из нас не повернулся. Потом
они достали селедку, спросили, есть ли у нас хлеб, и уже тогда мы им
поверили».
Воспоминания о еде - самые приятные. Картошка с молоком, которой кормили партизаны в первый вечер в отряде, гороховый суп в доме, куда Бориса как-то пустили на постой. Пора было уходить, но там начали готовить еду. Мальчик прятался на печи, «манкировал», искал способы остаться. Гороховый суп он любит до сих пор, хотя тот - так и не попробовал.
Холокост, которого не было

Уже после победы через село, где размещался патризанский отряд,
проходила советская воинская часть. Русский танкист спросил ребенка,
откуда он. Узнал, что из Минска и забрал с собой - было по пути их
наступления. Вместе с другими детьми Борис добрался до разрушенного
города. «Помню, как мы стояли посреди развалин, к нам подошел мужчина,
сказал: «Лучше бы на Украину поехали, там хотя бы хлеб есть». Где
находилась эта Украина никто из детей, конечно, не знал. Пошли искать
советскую власть, набрели на военкомат. Получили направления в детский
дом: борьба за выживание продолжилась уже там. Голод, холод: «бывает,
спишь под тоненьким одеялом, в помещении без отопления, в одежде.
Просыпаешься голым: все сняли товарищи по несчастью».
«Когда я узнал про закон Димы Яковлева, мне захотелось лично встретиться
с этими депутатами, рассказать им, что такое детский дом, потому что
они, кажется, не в курсе», - рассуждает Борис Владимирович, сейчас -
работник Высшей школы Российской Федерации, член Нью-Йоркской академии
наук. Тогда - обычный беспризорник. Никакой компенсации и льгот дети из
минского гетто не получили - вплоть до перестройки явление Холокоста в
СССР не признавали. Да и сознаться, что жил в гетто, было страшно.
Узников концлагерей иногда репрессировали уже на Родине.
«В 1990м году я был инициатором создания „Ассоциации несовершеннолетних
узников гетто“, - рассказывает Борис Владимирович. - Чтобы хоть как-то
сберечь память обо всем, что было. Зачем? Ответ очень банальный. Если мы
забудем, все может повториться снова. Я по долгу службы работаю со
студентами, и они про войну 1812 года знают больше, чем про Великую
Отечественную. После ВОВ мы растеряли много важных воспоминаний: потому
что о них запрещалось говорить». Борис Владимирович рос в то поколение,
когда фраза "20 лет без войны" казалась мечтой - Русско-Японская, Первая
Мировая, Советско-Финская, Халкин-Голл. «Сейчас живут люди, которых ни
одна война не коснулась. И мне немного страшно, что они ценят мир
гораздо меньше, чем мы».
На столе - написанные им учебники по экономике,
и «История города Глупова» любимого писателя Салтыкова-Щедрина.
«Читаешь, и понимаешь, в стране столько всего происходит, победы,
поражения, но, по сути, в сознании ничего за 200 лет не поменялось. И
антисемитизм, кстати, до сих пор живет и здравствует - то, что
культивировалось тысячелетиями, не так-то просто изжить».
В огне войны под Польшей
Для профессора, кандидата технических наук, заведующего кафедрой
автоматики МГУДТ Анатолия Кочерова война началась в три года. Июнь 1941
года они с матерью Риммой Финкенфельд встретили в огне боевых действий в
Польше, под Белостоком. В течение трех лет, пройдя лагеря и тюрьму
гестапо, оказывая посильную помощь партизанским отрядам, мать и сын
пытались выжить.
В 1936 году
еврейка по национальности Римма Финкенфельд вышла замуж за русского
военного Василия Кочерова. Через два года родился сын Толя. В 1940 году
Василий получил назначение замкомполка по технике и отбыл в восточную
часть Польши - местечко Крынки, под Белостоком, занятое русскими
войсками. Спустя год его жена с ребенком из Москвы выехали вслед за ним.

«Чем-то встревожен. Не буду
спрашивать, - так хоть на время забыть плохое, быть вместе, как я могла
так долго быть в разлуке, - пишет в своих дневниках, которые позже будут
опубликованы в книге "Каждый день мог стать последним..." Римма
Финкенфельд. - Не вытерпела, спросила, что случилось. «На улице с утра
были вывешены фашистские флаги. Прости меня», - тихо промолвил он. За
что простить? Молчание. Только потом поняла.
 Тревожно, кругом незнакомое, чужое. На базаре сегодня
крестьянка отказалась продавать масло старой женщине, «прочь, жиды»,
говорит. Обратилась ко мне: а вот пани продам. Я убежала. Если бы она
знала, что я за «пани». Страшно. «В 8 вечера пришел Вася. «Собирай,
Римок, вещи – война!» Я в тот момент почему-то ничего не почувствовала,
стала молча одеваться. Вася подошел, обнял: прости, я знал, что будет
война, но не думал, что так скоро. Пожить хотел с вами хоть лето, а
осенью отправил бы вас к отцу. Будут эвакуировать семьи всех офицеров».
Тревожно, кругом незнакомое, чужое. На базаре сегодня
крестьянка отказалась продавать масло старой женщине, «прочь, жиды»,
говорит. Обратилась ко мне: а вот пани продам. Я убежала. Если бы она
знала, что я за «пани». Страшно. «В 8 вечера пришел Вася. «Собирай,
Римок, вещи – война!» Я в тот момент почему-то ничего не почувствовала,
стала молча одеваться. Вася подошел, обнял: прости, я знал, что будет
война, но не думал, что так скоро. Пожить хотел с вами хоть лето, а
осенью отправил бы вас к отцу. Будут эвакуировать семьи всех офицеров».
Долгая дорога в Крынки
Но пожили Кочеровы совсем немного. «В середине июня уже все знали, что
начнется война. Семьям офицеров уезжать было неприлично. Это считалось
паникерством, - рассказывает Анатолий. - Мама была убежденной
коммунисткой, и попытки эвакуировать ее ни к чему не привели. Последний
раз они с отцом виделись в конце июня. А потом все». На газогенераторной
машине Финкенфельд с маленьким сыном и еще несколько человек двинулись
на восток, в Барановичи. Ехали ночью под непрерывной бомбежкой,
периодически оставляя машину и скрываясь в лесу. «Осколок бомбы
рикошетом отскочил от дерева и ранил меня в грудь. Мама меня
перевязывала. У меня шрам до сих пор остался, - говорит Кочеров.
Я помню, как мы вышли на Волковыскское шоссе - это было самое страшное. По обочине вдоль дороги тянулась вереница раскуроченных машин. Горючее кончилось, и водители просто бросили их здесь. Рядом вповалку лежали раненые с раздробленными конечностями, в грязи и крови, посиневшими губами просившие смерти: пожалей меня, добей, чтоб не мучился. А потом немцы высадили десант. Германские солдаты в нашей военной форме пристреливали русских раненых. Мы ушли с этого шоссе в лес».
Анатолий Кочеров бережно достает из
конверта свернутый лист пожелтевшей от времени бумаги. «На станции
Барановичи нас задержал немецкий патруль комендатуры. Это мамино
временное удостоверение. Датировано 24 июля 1941 года. Оргкомендатура
Барановичей. Здесь написано, что мама должна содержаться в лагере и
выполнять все работы. В Барановичах ее гоняли на разбор разрушенных
домов. Так было где-то до сентября. А потом посадили в теплушку и под
конвоем целый эшелон отправили на Запад, в Польшу, в лагерь. На станции
Берестовица нам с мамой удалось уйти. Тогда у немцев еще не было такой
охраны. Они были уверены, что все закончится победой. Мама дошла до
ближайшей станции и пошла обратно в Крынки. Дорога туда – 26 км пешком».
Здесь написано, что мама должна содержаться в лагере и
выполнять все работы. В Барановичах ее гоняли на разбор разрушенных
домов. Так было где-то до сентября. А потом посадили в теплушку и под
конвоем целый эшелон отправили на Запад, в Польшу, в лагерь. На станции
Берестовица нам с мамой удалось уйти. Тогда у немцев еще не было такой
охраны. Они были уверены, что все закончится победой. Мама дошла до
ближайшей станции и пошла обратно в Крынки. Дорога туда – 26 км пешком».
«Я никогда не забуду этой картины: мы идем вдвоем по лесу – только я и мама. И вдруг прямо на нас - три танка. Мама замерла и прижала меня к себе. Встала перед надвигающимися боевыми машинами, лицо мне закрыла. Вдруг, не дойдя до нас каких-то 30 метров, танки разворачиваются и съезжают на шоссе. Спасло только то, что она не побежала. Иначе нас бы срезали пулеметами».
В пустые карманы кладу патроны
В октябре 1941 года Финкенфельд с сыном добирается до имения Рудава.
Хозяева дома – Анна и Ян Гутаковские – оставляют их у себя. Поселили
женщину с ребенком во флигельке, рядом с костелом. Через месяц приехали
немецкие солдаты - охранять оставленный русскими склад с оружием.
Финкенфельт, посоветовавшись с Гутаковскими, идет к ним работать
уборщицей и поварихой. Там она знакомится с немцев Матиасом Доренкампом.
«Думаю, как попасть на склад, - размышляет в дневнике Римма. - Мне
подсказывают: предложи немцам откармливать гусей к рождеству, это
делается вручную, две недели такой кормежки и гусь готов. Уговорила. Два
раза в день, надев пальтишко с карманами, полными гороха, кормлю гусей:
руками раскрываю клюв и вкладываю горох. В пустые карманы кладу
патроны». «Матиас ненавидел Гитлера. При первой встрече он сказал моей
матери: Москау гут, Гитлер капут! Это был 1941 год. Да, среди немцев
были люди, которые понимали, что Гитлер ведет Германию к гибели. С
помощью Матиаса мама смогла доехать до Крынок, чтобы взять там теплую
одежду». 
«Мороз за 30 градусов. Крынки. Перед нами два двухэтажных дома без окон, темно, но слышно какое-то пение, - пишет Финкенфельд в дневнике. - Страшное зрелище: сидят, лежат, стоят люди, но они в большинстве своем уже мертвые, обледенели - это гетто, еврейское гетто Крынок. Ледяной дом, в молитвах немногих живых только одна просьба - послать смерть». В январе 1942 сменился состав немецкой вахты. Римму с сыном на санях повезли сначала в Хомутовцы, а затем в Берестовицу - «на опознание». «Когда я родился, мамин отец сделал мне обрезание, как и положено еврейским детям. Таким образом, я стал для мамы опасным. Меня выследили и донесли, - вспоминает Анатолий. - В Берестовицах нас привели к врачу. Он посмотрел меня, дождался, пока немцы выйдут из кабинета, и сказал моей маме: откажитесь от сына! Он опасен для вас, он вас выдаст! Но мама взяла меня на руки, крепко прижала к себе и заявила, что никогда этого не сделает. Когда немец вернулся, врач сказал ему, что это родовая травма и никакого отношения к евреям мы не имеем. Позже я узнал, что Ян Гутаковски пошел к немцу и дал ему золотую пятерку и кольцо. Он выкупил нас. Маму выпустили. Но нужно было уходить, стало известно, что составлен список подозрительных лиц, и мы в него входим».
Толя капут!
У Гутаковских были родственники в Белоруссии. В марте 1942 Финкенфельт с
сыном садится в поезд на Белосток, оттуда пешком до Вильнюса и дальше -
до железнодорожной станции Бигосово. Здесь Римма Финкенфельд осталась
работать уборщицей.«Однажды я взобрался на крышу вагона и начальник
станции Хоппе толкнул его. Я упал, к счастью, не на рельсы, но все же
сильно разбил голову, глаза заплыли кровью. А маме Хоппе крикнул: Толя
капут»! 
«Привезли евреев в Дриссу, заставили вырыть ров, заживо сбросили всех – с детьми, стариков, женщин, - засыпали ров землей, земля двигалась, стонала, тогда пустили грузовики по этой стонущей земле. На эту казнь согнали местных жителей, - пишет в своем дневнике мать Анатолия.
Римма Финкенфельд получала за работу на станции два кг отрубей в неделю. Стирала дополнительно белье немцам - за сахарин, мыло, безделушки. В воскресенье вместе с другими женщинами отправлялась за Двину, в Латвию, и там меняла свои услуги уборщицы на хлеб, картошку, горох. Поскольку она блестяще знала немецкий, ее обязали переводить пленным приказы шефа депо и его охраны, а потом к ней стали обращаться и местные жители, которым нужно было о чем-то поговорить с военными. «Бигосово - это очень важная узловая станция: днем и ночью шли составы на фронт и обратно, - поясняет Анатолий. - Моя мама была большим патриотом. Через несколько недель она установила в Бигосово связь с партизанами. Поезда подрывали, составы шли под откос. Немцы заподозрили ее в связях с партизанским движением. В декабре 1943 года за мамой пришли гестаповцы. Подозревали, что она еврейка, и что помогает партизанам. Нас предал кто-то из своих. Местные, которые служили немцам. Хуже немцев они были. Посадили в грузовую машину и привезли в Дриссенскую тюрьму. Помню большую холодную комнату с решетчатыми окнами без стекол».
Все на мне было мокрым от крови
«Накануне второго вызова приснился сон: ко мне на свидание пришел отец,
- пишет Римма в своем дневнике. - В добрых глазах - жалость и грусть, в
украинской соломенной корзине - еда, сверху лежал большой пучок зеленого
лука. Рассказала женщинам, истолковали однозначно: будут слезы. В
полдень вызвали на допрос». «Мама
подверглась страшным пыткам, - нехотя вспоминает Анатолий Кочеров. -
Меня подвесили в петле перед ней, чтобы она призналась. У меня после
этого было растяжение позвонка, даже след остался. Мне было всего пять
лет. Но мама - железный человек». «Увели меня в другую комнату,
заставили принять таблетку (я поняла, чтобы не слышать моего крика), -
описывает эту сцену в своем дневнике Финкенфельд. - Острая боль,
темнота, кровь потекла к ногам. Но самое страшное было впереди. Схватили
Толю, накинули петлю на тоненькую шейку… Увидела его глаза, услышала:
«Мамочка, не хочу!» Бросилась к нему, сильный удар, снова темнота.
Пришла в себя от ударов, - лежала на полу, рядом плакал сын, живой,
увидела тоненькую струйку крови, которая текла из носика сына. В камере
женщины помогли лечь. Все на мне было мокрое от крови, на шее вздулся
рубец, болела поясница и раненая грудь. У Толи была рассечена бровь,
разбит нос». Финкенфельд заверила немцев, что она не еврейка, и что у
нее есть друзья в Германии - женщина сослалась на адрес и контактные
данные Матиаса Доренкампа. Кроме того, директор депо, в котором она
работала, написал письмо с просьбой отпустить ее, потому что «без пани
Риммы плохо - работа останавливается». Ее отпустили утром 10 февраля
1943 года, выдав временное удостоверение личности. «Мама была невысокого
роста, худенькая блондинка с голубыми глазами. Носила такую белокурую
корону на голове. С рыжинкой, - улыбаясь, добавляет Кочеров. - И
блестяще знала немецкий язык. Никто не принимал ее за еврейку, это нас и
спасло».
«Мама
подверглась страшным пыткам, - нехотя вспоминает Анатолий Кочеров. -
Меня подвесили в петле перед ней, чтобы она призналась. У меня после
этого было растяжение позвонка, даже след остался. Мне было всего пять
лет. Но мама - железный человек». «Увели меня в другую комнату,
заставили принять таблетку (я поняла, чтобы не слышать моего крика), -
описывает эту сцену в своем дневнике Финкенфельд. - Острая боль,
темнота, кровь потекла к ногам. Но самое страшное было впереди. Схватили
Толю, накинули петлю на тоненькую шейку… Увидела его глаза, услышала:
«Мамочка, не хочу!» Бросилась к нему, сильный удар, снова темнота.
Пришла в себя от ударов, - лежала на полу, рядом плакал сын, живой,
увидела тоненькую струйку крови, которая текла из носика сына. В камере
женщины помогли лечь. Все на мне было мокрое от крови, на шее вздулся
рубец, болела поясница и раненая грудь. У Толи была рассечена бровь,
разбит нос». Финкенфельд заверила немцев, что она не еврейка, и что у
нее есть друзья в Германии - женщина сослалась на адрес и контактные
данные Матиаса Доренкампа. Кроме того, директор депо, в котором она
работала, написал письмо с просьбой отпустить ее, потому что «без пани
Риммы плохо - работа останавливается». Ее отпустили утром 10 февраля
1943 года, выдав временное удостоверение личности. «Мама была невысокого
роста, худенькая блондинка с голубыми глазами. Носила такую белокурую
корону на голове. С рыжинкой, - улыбаясь, добавляет Кочеров. - И
блестяще знала немецкий язык. Никто не принимал ее за еврейку, это нас и
спасло».

В феврале 1943 в Бигосово пришел карательный отряд по борьбе с партизанами. Сжигали целые деревни: загоняли в сараи стариков, малышей, больных, женщин, запирали и жгли. Часть населения пригнали на станцию - за колючую проволоку. Близлежащие к Росице, Сарии деревни были полностью сожжены, погибли все. «После ухода карателей наша соседка Стефа Колосовская попросила мою маму проводить ее в Росицу - найти и похоронить останки ее родителей. Глазам предстало страшное зрелище: пепелище, трубы, обгоревшие развалины. Стефа нашла какой-то лоскуток, который приняла за платье матери, собрала горсть земли, вырыла небольшую ямку и закопала. Маме Стефы было всего 54 года. В апреле - мае мама вместе со мной ушла в лес. Несколько месяцев мы жили в шалаше под Бигосово. 18 июня 1944 года в эти места пришли наши войска. Мы вышли. После мамой сильно заинтересовалось КГБ. Единственная еврейка, которая осталась живой в этом районе. Кроме того, она работала у немцев. Маму вызывали на допросы. Но партизаны дали все документы, подтверждающие, что мама была своим разведчиком». Кочеровы-Финкенфельд вернулись в Москву в конце 1944 года. Уже здесь до них дошло письмо от некого Прокопа Войтовича, который утверждал, что в начале ноября 1941 года в его дом в деревне Кончицы, недалеко от Пинска, зашли под вечер трое русских военных, бежавшие из лагеря. «Один из этих военных был мой муж, он оставил в семье адрес своей мамы - в городе Егорьевске. Ушли они на юго-восток, вскоре после ухода в той стороне началась перестрелка. Это все, что я знаю о своем муже», - заканчивает историю своего дневника Финкенфельд.
Шесть лет назад, в
сентябре 2006 года Риммы Финкенфельд не стало. Небольшую книгу «Каждый
день мог с тать последним» сын Анатолий подготовил и опубликовал по ее
дневнику. В тот же год он подал документы в иерусалимский мемориальный
комплекс катастрофы Холокоста - ЯдВа-Шем на признание Анны и Яна
Гутаковских «Праведниками мира». В 2007 году он получил письмо, в
котором сообщалось, что звание им присвоено «за спасение еврейки
Кочеровой Риммы с сыном». «Это история о том, как мы выиграли войну не
только силами наших солдат, но и силами женщин, которые боролись с
захватчиками и смогли вынести на своих плечах все это, - в заключении
говорит Кочеров. - Мы с мамой спаслись за счет того, что люди помогали
нам. Говорят, что русские такие, сякие - ничего подобного. В большинстве
своем - очень добрые люди.
тать последним» сын Анатолий подготовил и опубликовал по ее
дневнику. В тот же год он подал документы в иерусалимский мемориальный
комплекс катастрофы Холокоста - ЯдВа-Шем на признание Анны и Яна
Гутаковских «Праведниками мира». В 2007 году он получил письмо, в
котором сообщалось, что звание им присвоено «за спасение еврейки
Кочеровой Риммы с сыном». «Это история о том, как мы выиграли войну не
только силами наших солдат, но и силами женщин, которые боролись с
захватчиками и смогли вынести на своих плечах все это, - в заключении
говорит Кочеров. - Мы с мамой спаслись за счет того, что люди помогали
нам. Говорят, что русские такие, сякие - ничего подобного. В большинстве
своем - очень добрые люди.
Я
рассказывал о своей истории студентам. Они внимательно выслушали меня,
затем повисла тишина и .jpg) раздался вопрос: Анатолий Васильевич, а вот
сейчас вы себя чувствуете евреем или русским? Я ответил, что если я
вижу, что несправедливо обижают еврея - я еврей. Если русского - я
русский. Араба - значит, я араб. Нормальный человек будет реагировать
только так».
раздался вопрос: Анатолий Васильевич, а вот
сейчас вы себя чувствуете евреем или русским? Я ответил, что если я
вижу, что несправедливо обижают еврея - я еврей. Если русского - я
русский. Араба - значит, я араб. Нормальный человек будет реагировать
только так».
Известному экономисту, профессору Борису Сребнику, каждую ночь снится война. «Выстрелы, крики, я куда-то бегу и все ощупываю себя: не ранен ли?». Борис Владимирович посещал психотерапевтов, но все бесполезно — говорят, эти воспоминания не вытравить ничем.
Жертва Холокоста Борис Сребник.Больше двух лет он прожил в минском гетто — самом крупном на территории бывшего СССР. Оккупанты разместили там больше ста тысяч российских и немецких евреев. Постепенно уничтожили всех, за редкими исключениями.
Погром начинается с кладбища
В комнате Бориса Сребника стоит старая фотография — молодой, улыбчивый парень, одетый в театральный костюм. Это практически начало его семейного архива — снимков родных или собственного детства у него не осталось. Когда началась война, Борису было семь.

Немецкая армия заняла Минск уже в конце июня. Сразу же издали приказ коменданта: всем евреям собрать носильные вещи и пройти в дома на указанных в письме улицах. В случае неповиновения — расстрел. После переселения оккупанты приказали обнести район стеной — строить ее должны сами узники нового гетто. Выходить из гетто не разрешалось. Остатки ценностей и одежды тайком меняли у местных жителей, подходивших с другой стороны колючей ограды. На картошку, муку — они уже стали предметом роскоши.
Осенью начались погромы — оккупанты выбирали один из районов и полностью уничтожали всех его жителей. Первый погром провели 7 ноября, но слухи о нем появились гораздо раньше. Борис с родными жил в большом доме у старинного еврейского кладбища. Старшие члены семьи рассудили, что погромы должны начаться именно отсюда: чтобы трупы далеко не везти. Семья отправилась ночевать к знакомым, на Хлебную улицу. Но, оказалось, начать решили именно оттуда.
«Рано утром нас всех выгнали во двор старого хлебозавода, выстраивали в длинные очереди, сажали в машины и увозили в неизвестном направлении. Автомобили возвращались пустыми».

«Я помню эту очередь, помню, каким был уставшим, и мне очень хотелось сесть уже в машину, покататься. Я просил об это маму, но как только подходил наш черед, она кричала, что ее муж работает в лагере специалистов. Мужчин „с профессией“ из гетто забрали и поселили отдельно. По колонне прошел слух, что членов их семей не будут забирать. Мама кричала, ее били прикладами, но она мужественно оттаскивала меня в хвост очереди. И так несколько раз. А потом начало темнеть, закончился рабочий день и немцы остановили погром. Они народ основательный — работали четко по расписанию».
Из тех, кого увезли на машинах, в гетто больше никто не вернулся.
Жизнь в «малинах»
Скоро не стало и мамы Бориса — она тайно отправилась в русский квартал, к знакомым: уговорить, чтобы они забрали сына. На тот момент он был светловолосым и почти не имел выраженных еврейских черт. В гетто его мама не вернулась — ее узнал полицейский, выдал немецким солдатам. Помимо погромов, существовали и облавы: вламывались в дом, забирали выборочно, по определенным признакам. Например, только подростков. Так Борис лишился старшего брата.
В гетто не отмечали праздников — все позабыли о собственных днях рождения. Главной радостью были встречи после погрома, люди выбегали на улицу, приветствовали знакомых, оставшихся в живых. Трогали друг друга, поздравляли.

Очень скоро немцы потребовали отдать все теплые вещи — единственную валюту, на которую можно было купить продукты у местных жителей. В домах стали организовывать «малины» — вырывали в полу ямы, куда прятали всю целую одежду, сверху накидывали тряпья, задвигали кроватью — часто единственной на комнату. А проживало там обычно 15-20 человек. Там же в случае погромов прятались. Вход присыпали махоркой. «Я помню, однажды все в очередной раз сидели в таком убежище, вырытым под кладбищем, в страхе, панике и жуткой тишине.
У кого-то начал плакать ребенок, все начали шикать. Но младенец очень быстро замолчал. Не уверен, но кажется, его задушили. Ради спасения других».
Есть хотелось больше, чем жить
К концу 41 года вещей не осталось, есть было нечего. Начинался голод, который вкупе с суровой зимой работал не хуже организованных погромов. «Идет человек, от голода весь опухший, раздувшийся, и на ходу как бревно какое-то падает. Секунда — и его не стало», — вспоминает Борис. Мальчишками они прятались за кладбищенскими памятниками и смотрели, как расстреливают военнопленных. Однажды рядом с пленными внезапно упала и умерла лошадь: измученные люди бросились к ней, руками раздирали и поедали плоть. Немцы стреляли, угрожали, но от лошади никто не отошел по своей воле.

Борис показывает следы на руках — шрамы от колючей проволоки. Вместе с другом Маиком они начали совершать вылазки из гетто. Это было запрещено под страхом смерти, но есть хотелось больше, чем жить. Побирались у местного населения, искали на помойках. Добывали гнилые картофелины, вялые капустные листы — кому-то мусор, а кому-то — щи.
«Страшнее всего было, что выдадут. Мы пробирались по разрушенному Минску, за нами бежали белорусские мальчики и кричали „Жидята!“. К нам тут же подходили полицейские и требовали снять штаны. Спасало то, что мы были не обрезанные. Нас отпускали».
Местное население евреев своими союзниками не считали — первый еврейский партизанский отряд появился только в 1942 году. Наоборот, оголодавшие белорусы устраивали набеги на гетто — требовали драгоценности, потому что «у жидов же всегда есть золото». Чтобы защититься, рядом с каждым домом вешали рельс, при появлении мародеров с его помощью били тревогу, вызывали охрану гетто. С мародерами немецкие солдаты расправлялись беспощадно — право на насилие они признавали только за собой. Военная ревность. «А одного мародера, захваченного прямо в нашем доме, было ужасно жалко», — вспоминает Борис.

На его глазах ежедневно кого-нибудь убивали. Он жил рядом с кладбищем. Трупы привозили и сбрасывали в огромные ямы. Иногда среди них были еще живые, но раненые люди. Ямы, чуть присыпанные землей, шевелились. Подойти, найти, помочь — страшно и почти непосильно.
Еврейские партизаны
Люди умирали, гетто сужалось, выживших переселяли в другие дома. Отдельно поселили около 30 тысяч евреев из Германии, местные называли их «гамбургскими»: говорили, им пообещали, что депортируют в Палестину, сказали, взять с собой только ценности. Это гетто не просуществовали и года — всех уничтожили за короткий срок.
В белорусском гетто погромы устраивали все чаще. Борис никогда не ходил за территорию гетто один, только с другом Маиком, но однажды утром Маик идти отказался: у него была порвана обувь. «Мне ужасно не хотелось уходить просит милостыню, я чувствовал, что иду, как на Голгофу, — вспоминает Борис Владимирович. - Но еда была нужна, не мог отказаться. Вернулся вечером на пустое место — гетто уничтожили окончательно, всех, кто там был, убили».

Восьмилетний Борис был в отчаянии, шел по городу с твердым намерением сдаться: не представлял, как и где жить одному. Внезапно встретил знакомых, Иосифа Левина и его младшую сестру Майю, переживших погром гетто. Иосиф знал, как пройти к партизанам. Три дня они искали по городу выживших евреев — набралось 10 человек, все - дети и подростки. Направились в лес. Придумали даже стратегию: идти попарно, на отдалении друг от друга, оккупантам говорить, что направляются в деревню к родным. Шли босые, голодные, скоро остались почти без одежды — забирали деревенские мальчики, у них не было и того. Ссорились и между собой. «Мы же были дети», — вспоминает Борис. Однажды после ночевки отряд ушел, оставив его спящим — самого маленького воспринимали как обузу. Борис проснулся, кричал, плакал. Потом побежал. Чудом оказалось, что в верном направлении. Догнал.

«Когда мы через трое суток подошли к партизанской зоне, был конец дня, уже заходило солнце, — вспоминает Борис. — Внезапно из кустов выходят полицейские в форме, молодые ребята, мы начинаем им рассказывать свои басни, они в ответ: знаем, вы жиды, сейчас будем вас расстреливать. И поставили к кустарникам лицом, начали щелкать затворами. Никто не плакал, не просил отпустить. Помню только свою горькую детскую обиду: на кой-черт было столько лет мучиться, чтобы вот так закончить. А потом они сказали: шутка, ребята, мы партизаны. Никто из нас не повернулся. Потом они достали селедку, спросили, есть ли у нас хлеб, и уже тогда мы им поверили».
Воспоминания о еде — самые приятные. Картошка с молоком, которой кормили партизаны в первый вечер в отряде, гороховый суп в доме, куда Бориса как-то пустили на постой. Пора было уходить, но там начали готовить еду. Мальчик прятался на печи, «манкировал», искал способы остаться. Гороховый суп он любит до сих пор, хотя тот — так и не попробовал.
Холокост, которого не было

Уже после победы через село, где размещался патризанский отряд, проходила советская воинская часть. Русский танкист спросил ребенка, откуда он. Узнал, что из Минска и забрал с собой - было по пути их наступления. Вместе с другими детьми Борис добрался до разрушенного города. «Помню, как мы стояли посреди развалин, к нам подошел мужчина, сказал: «Лучше бы на Украину поехали, там хотя бы хлеб есть». Где находилась эта Украина никто из детей, конечно, не знал. Пошли искать советскую власть, набрели на военкомат. Получили направления в детский дом: борьба за выживание продолжилась уже там. Голод, холод: «бывает, спишь под тоненьким одеялом, в помещении без отопления, в одежде. Просыпаешься голым: все сняли товарищи по несчастью».

«Когда я узнал про закон Димы Яковлева, мне захотелось лично встретиться с этими депутатами, рассказать им, что такое детский дом, потому что они, кажется, не в курсе», — рассуждает Борис Владимирович, сейчас — работник Высшей школы Российской Федерации, член Нью-Йоркской академии наук. Тогда — обычный беспризорник. Никакой компенсации и льгот дети из минского гетто не получили — вплоть до перестройки явление Холокоста в СССР не признавали. Да и сознаться, что жил в гетто, было страшно. Узников концлагерей иногда репрессировали уже на Родине.
«В 1990м году я был инициатором создания „Ассоциации несовершеннолетних узников гетто“, — рассказывает Борис Владимирович. — Чтобы хоть как-то сберечь память обо всем, что было. Зачем? Ответ очень банальный. Если мы забудем, все может повториться снова. Я по долгу службы работаю со студентами, и они про войну 1812 года знают больше, чем про Великую Отечественную. После ВОВ мы растеряли много важных воспоминаний: потому что о них запрещалось говорить». Борис Владимирович рос в то поколение, когда фраза "20 лет без войны" казалась мечтой — Русско-Японская, Первая Мировая, Советско-Финская, Халкин-Голл. «Сейчас живут люди, которых ни одна война не коснулась. И мне немного страшно, что они ценят мир гораздо меньше, чем мы».

На столе — написанные им учебники по экономике, и «История города Глупова» любимого писателя Салтыкова-Щедрина. «Читаешь, и понимаешь, в стране столько всего происходит, победы, поражения, но, по сути, в сознании ничего за 200 лет не поменялось. И антисемитизм, кстати, до сих пор живет и здравствует — то, что культивировалось тысячелетиями, не так-то просто изжить».
В огне войны под Польшей
Для профессора, кандидата технических наук, заведующего кафедрой автоматики МГУДТ Анатолия Кочерова война началась в три года. Июнь 1941 года они с матерью Риммой Финкенфельд встретили в огне боевых действий в Польше, под Белостоком. В течение трех лет, пройдя лагеря и тюрьму гестапо, оказывая посильную помощь партизанским отрядам, мать и сын пытались выжить.

В 1936 году еврейка по национальности Римма Финкенфельд вышла замуж за русского военного Василия Кочерова. Через два года родился сын Толя. В 1940 году Василий получил назначение замкомполка по технике и отбыл в восточную часть Польши — местечко Крынки, под Белостоком, занятое русскими войсками. Спустя год его жена с ребенком из Москвы выехали вслед за ним.

«Чем-то встревожен. Не буду спрашивать, — так хоть на время забыть плохое, быть вместе, как я могла так долго быть в разлуке, — пишет в своих дневниках, которые позже будут опубликованы в книге "Каждый день мог стать последним..." Римма Финкенфельд. — Не вытерпела, спросила, что случилось. «На улице с утра были вывешены фашистские флаги. Прости меня», — тихо промолвил он. За что простить? Молчание. Только потом поняла.

Тревожно, кругом незнакомое, чужое. На базаре сегодня крестьянка отказалась продавать масло старой женщине, «прочь, жиды», говорит. Обратилась ко мне: а вот пани продам. Я убежала. Если бы она знала, что я за «пани». Страшно. «В 8 вечера пришел Вася. «Собирай, Римок, вещи - война!» Я в тот момент почему-то ничего не почувствовала, стала молча одеваться. Вася подошел, обнял: прости, я знал, что будет война, но не думал, что так скоро. Пожить хотел с вами хоть лето, а осенью отправил бы вас к отцу. Будут эвакуировать семьи всех офицеров».
Долгая дорога в Крынки
Но пожили Кочеровы совсем немного. «В середине июня уже все знали, что начнется война. Семьям офицеров уезжать было неприлично. Это считалось паникерством, — рассказывает Анатолий. — Мама была убежденной коммунисткой, и попытки эвакуировать ее ни к чему не привели. Последний раз они с отцом виделись в конце июня. А потом все».
На газогенераторной машине Финкенфельд с маленьким сыном и еще несколько человек двинулись на восток, в Барановичи. Ехали ночью под непрерывной бомбежкой, периодически оставляя машину и скрываясь в лесу. «Осколок бомбы рикошетом отскочил от дерева и ранил меня в грудь. Мама меня перевязывала. У меня шрам до сих пор остался, - говорит Кочеров.

Я помню, как мы вышли на Волковыскское шоссе — это было самое страшное. По обочине вдоль дороги тянулась вереница раскуроченных машин. Горючее кончилось, и водители просто бросили их здесь. Рядом вповалку лежали раненые с раздробленными конечностями, в грязи и крови, посиневшими губами просившие смерти: пожалей меня, добей, чтоб не мучился. А потом немцы высадили десант. Германские солдаты в нашей военной форме пристреливали русских раненых. Мы ушли с этого шоссе в лес».
Анатолий Кочеров бережно достает из конверта свернутый лист пожелтевшей от времени бумаги. «На станции Барановичи нас задержал немецкий патруль комендатуры. Это мамино временное удостоверение. Датировано 24 июля 1941 года. Оргкомендатура Барановичей. Здесь написано, что мама должна содержаться в лагере и выполнять все работы.
В Барановичах ее гоняли на разбор разрушенных домов. Так было где-то до сентября. А потом посадили в теплушку и под конвоем целый эшелон отправили на Запад, в Польшу, в лагерь. На станции Берестовица нам с мамой удалось уйти. Тогда у немцев еще не было такой охраны. Они были уверены, что все закончится победой. Мама дошла до ближайшей станции и пошла обратно в Крынки. Дорога туда - 26 км пешком».

«Я никогда не забуду этой картины: мы идем вдвоем по лесу - только я и мама. И вдруг прямо на нас — три танка. Мама замерла и прижала меня к себе. Встала перед надвигающимися боевыми машинами, лицо мне закрыла. Вдруг, не дойдя до нас каких-то 30 метров, танки разворачиваются и съезжают на шоссе. Спасло только то, что она не побежала. Иначе нас бы срезали пулеметами».
В пустые карманы кладу патроны
В октябре 1941 года Финкенфельд с сыном добирается до имения Рудава. Хозяева дома - Анна и Ян Гутаковские - оставляют их у себя. Поселили женщину с ребенком во флигельке, рядом с костелом. Через месяц приехали немецкие солдаты — охранять оставленный русскими склад с оружием. Финкенфельт, посоветовавшись с Гутаковскими, идет к ним работать уборщицей и поварихой. Там она знакомится с немцев Матиасом Доренкампом.
«Думаю, как попасть на склад, — размышляет в дневнике Римма. — Мне подсказывают: предложи немцам откармливать гусей к рождеству, это делается вручную, две недели такой кормежки и гусь готов. Уговорила. Два раза в день, надев пальтишко с карманами, полными гороха, кормлю гусей: руками раскрываю клюв и вкладываю горох. В пустые карманы кладу патроны».
«Матиас ненавидел Гитлера. При первой встрече он сказал моей матери: Москау гут, Гитлер капут! Это был 1941 год. Да, среди немцев были люди, которые понимали, что Гитлер ведет Германию к гибели. С помощью Матиаса мама смогла доехать до Крынок, чтобы взять там теплую одежду».

«Мороз за 30 градусов. Крынки. Перед нами два двухэтажных дома без окон, темно, но слышно какое-то пение, — пишет Финкенфельд в дневнике. — Страшное зрелище: сидят, лежат, стоят люди, но они в большинстве своем уже мертвые, обледенели — это гетто, еврейское гетто Крынок. Ледяной дом, в молитвах немногих живых только одна просьба — послать смерть».
В январе 1942 сменился состав немецкой вахты. Римму с сыном на санях повезли сначала в Хомутовцы, а затем в Берестовицу — «на опознание».
«Когда я родился, мамин отец сделал мне обрезание, как и положено еврейским детям. Таким образом, я стал для мамы опасным. Меня выследили и донесли, — вспоминает Анатолий. — В Берестовицах нас привели к врачу. Он посмотрел меня, дождался, пока немцы выйдут из кабинета, и сказал моей маме: откажитесь от сына! Он опасен для вас, он вас выдаст! Но мама взяла меня на руки, крепко прижала к себе и заявила, что никогда этого не сделает. Когда немец вернулся, врач сказал ему, что это родовая травма и никакого отношения к евреям мы не имеем. Позже я узнал, что Ян Гутаковски пошел к немцу и дал ему золотую пятерку и кольцо. Он выкупил нас. Маму выпустили. Но нужно было уходить, стало известно, что составлен список подозрительных лиц, и мы в него входим».
Толя капут!
У Гутаковских были родственники в Белоруссии. В марте 1942 Финкенфельт с сыном садится в поезд на Белосток, оттуда пешком до Вильнюса и дальше — до железнодорожной станции Бигосово. Здесь Римма Финкенфельд осталась работать уборщицей.
«Однажды я взобрался на крышу вагона и начальник станции Хоппе толкнул его. Я упал, к счастью, не на рельсы, но все же сильно разбил голову, глаза заплыли кровью. А маме Хоппе крикнул: Толя капут»!

«Привезли евреев в Дриссу, заставили вырыть ров, заживо сбросили всех - с детьми, стариков, женщин, — засыпали ров землей, земля двигалась, стонала, тогда пустили грузовики по этой стонущей земле. На эту казнь согнали местных жителей, — пишет в своем дневнике мать Анатолия.
Римма Финкенфельд получала за работу на станции два кг отрубей в неделю. Стирала дополнительно белье немцам — за сахарин, мыло, безделушки. В воскресенье вместе с другими женщинами отправлялась за Двину, в Латвию, и там меняла свои услуги уборщицы на хлеб, картошку, горох. Поскольку она блестяще знала немецкий, ее обязали переводить пленным приказы шефа депо и его охраны, а потом к ней стали обращаться и местные жители, которым нужно было о чем-то поговорить с военными.
«Бигосово — это очень важная узловая станция: днем и ночью шли составы на фронт и обратно, — поясняет Анатолий. — Моя мама была большим патриотом. Через несколько недель она установила в Бигосово связь с партизанами. Поезда подрывали, составы шли под откос. Немцы заподозрили ее в связях с партизанским движением.
В декабре 1943 года за мамой пришли гестаповцы. Подозревали, что она еврейка, и что помогает партизанам. Нас предал кто-то из своих. Местные, которые служили немцам. Хуже немцев они были. Посадили в грузовую машину и привезли в Дриссенскую тюрьму. Помню большую холодную комнату с решетчатыми окнами без стекол».
Все на мне было мокрым от крови
«Накануне второго вызова приснился сон: ко мне на свидание пришел отец, — пишет Римма в своем дневнике. — В добрых глазах — жалость и грусть, в украинской соломенной корзине — еда, сверху лежал большой пучок зеленого лука. Рассказала женщинам, истолковали однозначно: будут слезы. В полдень вызвали на допрос».

«Мама подверглась страшным пыткам, - нехотя вспоминает Анатолий Кочеров. — Меня подвесили в петле перед ней, чтобы она призналась. У меня после этого было растяжение позвонка, даже след остался. Мне было всего пять лет. Но мама — железный человек».
«Увели меня в другую комнату, заставили принять таблетку (я поняла, чтобы не слышать моего крика), — описывает эту сцену в своем дневнике Финкенфельд. — Острая боль, темнота, кровь потекла к ногам. Но самое страшное было впереди. Схватили Толю, накинули петлю на тоненькую шейку… Увидела его глаза, услышала: «Мамочка, не хочу!» Бросилась к нему, сильный удар, снова темнота. Пришла в себя от ударов, — лежала на полу, рядом плакал сын, живой, увидела тоненькую струйку крови, которая текла из носика сына. В камере женщины помогли лечь. Все на мне было мокрое от крови, на шее вздулся рубец, болела поясница и раненая грудь. У Толи была рассечена бровь, разбит нос».
Финкенфельд заверила немцев, что она не еврейка, и что у нее есть друзья в Германии — женщина сослалась на адрес и контактные данные Матиаса Доренкампа. Кроме того, директор депо, в котором она работала, написал письмо с просьбой отпустить ее, потому что «без пани Риммы плохо — работа останавливается». Ее отпустили утром 10 февраля 1943 года, выдав временное удостоверение личности.
«Мама была невысокого роста, худенькая блондинка с голубыми глазами. Носила такую белокурую корону на голове. С рыжинкой, — улыбаясь, добавляет Кочеров. — И блестяще знала немецкий язык. Никто не принимал ее за еврейку, это нас и спасло».

В феврале 1943 в Бигосово пришел карательный отряд по борьбе с партизанами. Сжигали целые деревни: загоняли в сараи стариков, малышей, больных, женщин, запирали и жгли. Часть населения пригнали на станцию — за колючую проволоку. Близлежащие к Росице, Сарии деревни были полностью сожжены, погибли все. «После ухода карателей наша соседка Стефа Колосовская попросила мою маму проводить ее в Росицу — найти и похоронить останки ее родителей. Глазам предстало страшное зрелище: пепедище, трубы, обгоревшие равалины. Стефа нашла какой-то лоскуток, который приняла за платье матери, собрала горсть земли, вырыла небольшую ямку и закопала. Маме Стефы было всего 54 года.
В апреле - мае мама вместе со мной ушла в лес. Несколько месяцев мы жили в шалаше под Бигосово. 18 июня 1944 года в эти места пришли наши войска. Мы вышли. После мамой сильно заинтересовалось КГБ. Единственная еврейка, которая осталась живой в этом районе. Кроме того, она работала у немцев. Маму вызывали на допросы. Но партизаны дали все документы, подтверждающие, что мама была своим разведчиком».
Кочеровы-Финкенфельд вернулись в Москву в конце 1944 года. Уже здесь до них дошло письмо от некого Прокопа Войтовича, который утверждал, что в начале ноября 1941 года в его дом в деревне Кончицы, недалеко от Пинска, зашли под вечер трое русских военных, бежавшие из лагеря. «Один из этих военных был мой муж, он оставил в семье адрес своей мамы — в городе Егорьевске. Ушли они на юно-восток, вскоре после ухода в той стороне началась перестрелка. Это все, что я знаю о своем муже», - заканчивает историю своего дневника Финкенфельд.

Шесть лет назад, в сентябре 2006 года Риммы Финкенфельд не стало. Небольшую книгу «Каждый день мог стать последним» сын Анатолий подготовил и опубликовал по ее дневнику. В тот же год он подал документы в иерусалимский мемориальный комплекс катастрофы Холокоста — Яд-ва-Шем на признание Анны и Яна Гутаковских «Праведниками мира». В 2007 году он получил письмо, в котором сообщалось, что звание и присвоено «за спасение еврейки Кочеровой Риммы с сыном».
«Это история о том, как мы выиграли войну не только силами наших солдат, но и силами женщин, которые боролись с захватчиками и смогли вынести на своих плечах все это, — в заключении говорит Кочеров. — Мы с мамой спаслись за счет того, что люди помогали нам. Говорят, что русские такие, сякие — ничего подобного. В большинстве своем — очень добрые люди.

Я рассказывал о своей истории студентам. Они внимательно выслушали меня, затем повисла тишина и раздался вопрос: Анатолий Васильевич, а вот сейчас вы себя чувствуете евреем или русским? Я ответил, что если я вижу, что несправедливо обижают еврея — я еврей. Если русского — я русский. Араба — значит, я араб. Нормальный человек будет реагировать только так».
Интервью было взято в 1996 году в Бруклине (США) Фондом исторических видеоматериалов о людях, переживших Холокост (Survivors of the Shoah Visual History Foundation)
— Я родился 28 сентября 1932 года в посёлке Каменка. Тогда это была Молдавская Автономная Республика в составе Украины. В мае 1941 года я закончил второй класс, а в июне началась война. Родители долго решали, уезжать или нет, пока не стало поздно, и нам пришлось остаться.
— Когда Вы узнали о начале войны?
— По выходным дням у нас в посёлке всегда были народные гуляния. Молдаване выходили в национальных одеждах. В одно из таких воскресений я катался на велосипеде. После этого я пришёл домой. Все сидели унылые, а я был весел. Тогда тётя сказала мне, что началась война. В моём возрасте я ещё не воспринимал войну всерьёз. Была финская война, воевали, но где-то далеко, и мы этого не ощущали. Так же было и в этот раз. Позже мы стали понимать, что на этот раз всё гораздо серьёзнее. А потом, когда фашисты пришли к нам, мы уже не только понимали, но и почувствовали.
— Как Вы узнали о том, что румыны и немцы продвигаются в вашу сторону?
— Я знал только про немцев. О румынах я узнал, когда они уже пришли. Но, видимо, взрослые знали о том, что румыны должны были командовать до Южного Буга, а дальше – немцы.
— Откуда вы узнали, что советские войска отступают?
— Мы видели, как они уходили, унылые, пешком. На подводах везли оружие. А мы стояли и махали им руками.
— Были и беженцы тоже?
— Беженцев мы не видели, они проходили мимо, т.к. у нас не было железнодорожной станции, только узкоколейка.
Когда советские войска ушли, в Каменке осталось только несколько солдат. На моих глазах они взорвали здание церкви, в которой находился военный склад боеприпасов. Ими также были подорваны казармы воинской части, здание Райисполкома и ещё ряд объектов. Каменка находится в лощине Днестра, и эти солдаты забрались на холм. И когда из-за Днестра пришли румыны, они стали стрелять по ним сверху из пулемётов. Румыны в панике пустились в бегство. Они кричали:»Unde drum la Nistru?» (Где дорога на Днестр?). Таким образом эти несколько советских солдат такой ужас на румын навели! Да и сами румыны были вояки не очень… Ну а потом румыны прислали подкрепление, и, видимо, ночью те советские солдаты ушли. Румыны вошли в посёлок и начали наводить свои порядки…
— Был ли такой период, когда в посёлке не было власти?
— Дня два-три.
— И как вели себя в эти дни неевреи?
— Все сидели тихо. А евреи собирались в тех еврейских домах, у кого был второй, задний выход, чтобы можно было убежать…
В один летний день в посёлок вошла немецкая разведка, человек 15 на лошадях, молодые парни. И они стали говорить евреям: «Не убегайте! Мы никого не трогаем, мы – разведка, нас никто не интересует, но сзади идут румыны- вот они наведут порядок!»
Следующей ночью в посёлок заскочили румыны и почему-то стали стрелять в памятник Ленина. Начались грабежи, стали собирать всех евреев…
— Был какой-то специальный приказ преследовать евреев?
— Это была их политика…
В ту ночь, когда ворвались румыны, мы были в доме у соседей, у которых был задний выход. Мы выскочили и спрятались в каком-то саду. Стало светать. Мы лежали под каким-то кустом. Видимо в этом саду пряталось много евреев. Потому что мы слышали, как кого-то выводили, их крики. Мама говорила:»Это семья таких-то.» Потом была слышна автоматная очередь, т.е. их расстреляли… И так мы прятались где-то пол дня. Потом вывели и нас. И привели на Рынок. Туда согнали всех евреев, кого не расстреляли. Там на стойках стояли пулемёты. И мы там сидели три дня. Без еды, без ничего. Даже дождик немного накрапывал. По ночам вызывали людей на допросы. Спрашивали, кто где работал, кого знал. Через три дня приехал какой-то высокопоставленный армейский чин и забрал всех молодых мужчин. А остальных отпустили по домам. У нас дома всё было разграблено, разбито, невозможно было войти в комнату. Через пару дней опять всех собрали возле базара, и опять несколько дней все сидели на улице. Видимо румыны ещё не всё успели разграбить. Постепенно пожилых людей и детей опять отпустили. Через дней 10 вернулись назад молодые мужчины, которых раньше забрали. Они были худые, избитые. После этого стали привозить евреев из близлежащих деревень и местечек. Их всех расселили по еврейским домам. У нас тоже жили две или три семьи из местечка Рашково. Женщина с двумя девочками, пожилой мужчина с женой и ещё какая-то семья. В Каменке сделали что-то типа гетто, но оно ещё не было огорожено. И так мы жили до осени. Чем мы жили? Мама немного шила. А у отца было много знакомых молдaван, которые помогали нам чем могли. Кроме того, мы же были дома и у нас ещё были какие-то запасы. Приезжим было тяжелее, но мы как-то делились.
— Были ли погромы в этот период?
Именно в этот период не было…
Почти всё еврейское имущество уже было разграблено до этого местным населением. Но надо же было надевать эту одежду! А людям всё-таки было неудобно. Видимо поэтому и ставили вопрос о депортации.
А румыны продолжали грабить по ночам. Они заранее выбирали себе какой-то дом и грабили уже остатки, по мелочам. У кого-то остались серьги, у кого-то кольцо, часы… Солдаты заходили в дом и всех обыскивали. Могли и избить, если им что-то не нравилось.
Потом стали поговаривать, что нас будут выселять.
Ближе к зиме прибежал один парень из Песчанки (Винницкая область) и рассказал, что ночью к ним пришли жандармы, собрали всех евреев и увели. А его родители жили в Каменке и он убежал к ним. Недели через две в Каменку пришли те же самые жандармы (парень из Песчанки узнал их), собрали всех евреев на площади и погнали этапом. Говорили, что ведут к Южному Бугу, где были большие лагеря смерти. Было холодно, уже выпал первый снег. Дням нас гнали, а ночью расселяли на скотных дворах. Ничем не кормили, мы перебивались как могли сами. Были хорошие люди из местных, которые давали кусочек хлеба. И вот там мы двигались. Ходили слухи о том, что румыны получили телеграмму, будто на Южном Буге бушует какая-то эпидемия, и нас поворачивают в другую сторону. Нас привели в посёлок Кривое Озеро (на тот момент Одесская, а сейчас Николаевская область) и передали местным полицаям. Говорили, что мы будем работать там на каких-то заводах. На какое-то время нас оставили без надзора, и люди решили уйти обратно в Каменку. Почему, чем мы руководствовались, я не понимаю…
Мы пошли обратно точно так же, пешком, но уже, конечно, без надзора. Мы вернулись в Каменку. Было уже холодно. Дома были пустые стены…
Через три дня нас опять среди ночи подняли румыны и повели к Днестру. Нас согнали в парк. Люди стали поговаривать о том, что нас хотят топить в Днестре. Но через несколько часов ожидания нас опять погнали по этапу к Южному Бугу. На этот раз нас гнали совсем другие жандармы. Они расстреливали отстающих. А ведь среди нас были и старики, и маленькие дети, и больные. Я помню одного человека из Бессарабии. У него был парализованный отец, которого он таскал на плечах. Он бежал с ним в начало колонны и садился. А когда колонна проходила, он опять бежал в её начало. В конце концов он выбился из сил и не мог двигаться дальше. Жандарм сказал ему: «Или ты оставляешь старика, или мы убьём тебя!» Он не согласился бросить отца, и их убили обоих… И вот так каждый день, когда мы уходили, оставались трупы расстрелянных… Так мы и двигались…
В каком-то селе колхоз выделил нам три подводы. Туда посадили стариков, больных и маленьких детей. Меня тоже посадили на одну из этих подвод. И возчики решили повезти нас в лагерь смерти, находившийся в районе Бирзулы (Котовск, Одесская область). Но вы знаете как это бывает, что иногда из-за какой-то мелкой детали человек остаётся жить или погибает. Когда привезли бессарабцев, у них были кружки цвета румынского флага (Tricolor). У нас таких не было, и мне они всегда очень нравились. И когда мы заезжали на территорию лагеря, я увидел, что там лежит такая кружка. Нас выгрузили у одного из бараков, и эти подводы уехали обратно. Мы зашли в барак. Какой-то старик лежал на соломе. Наши старики тоже легли. Но меня всё мучала эта кружка. И я решил вернуться за нею. На территории лагеря я увидел ямы с незарытыми трупами. И вдруг я заметил вдали нашу колонну, где были мои родители. Я побежал за ними и догнал их. А те, кто остались в лагере, все погибли. Я один из этой группы, которую везли на трёх подводах, выжил, благодаря этой кружке…
Наступили морозы. Нас продолжали гнать дальше. С нашей семьёй произошла такая вещь. Когда нас гнали в первый раз, мы оставили старшую сестру у одной украинской женщины. Это считалось за счастье, если кто-то соглашался взять еврейского ребёнка. Люди понимали, что идут на погибель, и хотели спасти хотя бы детей. И действительно, многие спаслись именно таким образом. Так что когда нас гнали второй раз, мы уже были втроём, без сестры…
И вот так мы шли от села к селу. В одном из сёл была остановка, и нам сказали, что в этот день мы никуда не будем двигаться. И мы пошли с мамой в село на поиски еды. А когда мы вернулись, то увидели, что сарай пустой и никого нет. Видимо всех срочно подняли и погнали дальше. Мы пошли догонять нашу колонну. Нас догнал румынский солдат, который тоже, видимо, куда-то отлучался, и отстал. Он приказал нам идти за ним.
К вечеру мы добрались до какого-то села. Нам сказали, что евреев поместили в конюшне. Когда мы подошли к ней, то оттуда вышел отец и стал ругать нас за то, что мы догнали колонну. Он сказал, что пойдёт забрать сестру, а нам сказал возвращаться в Каменку, где мы и встретимся после. Сейчас я, конечно, не понимаю, как мы могли тогда согласиться на это… Но тогда нам казалось, что это имеет какой-то смысл… Больше мы не видели ни отца, ни сестру…
Мы с мамой убежали и стали скитаться от села к селу.
— А чем же вы питались всё это время, когда вас гнали по этапу, и когда вы скитались с мамой вдвоём?
— Были сердечные люди, которые выносили еду к колонне, помогали нам чем могли. Причём это были люди из беднейших. Я вам расскажу, как мы ориентировались. Если мы видели дом под жестяной крышей, мы никогда туда не заходили. Богатые нам, как правило, никогда ничего не давали. А в таком домике под соломенной крышей, который еле стоял, бедные люди всегда делились с нами чем имели…
В одном селе нас застала пурга, засыпало все дороги. Мы застряли там на пару недель. Потом была ещё одна пурга, и мы застряли в другом месте. Фактически, эти задержки нас и спасли…
Наконец, когда уже пробили дорогу, мы пришли к Днестру, недалеко от Каменки. Нам стали попадаться знакомые молдаване. И они говорили, что нам в Каменку идти нельзя, потому что там евреев убивают. Оказывается, пока мы с мамой двигались, евреи вернулись. И вернулась моя сестра тоже. Сын той женщины, которая её приютила, вернулся с плена, и ей пришлось уйти. В Каменке собралось приличное количество евреев. Нам также рассказывали, что до этого приходил мой отец. Он даже не зашёл в дом, просто сидел на ступеньках. Интересовался у местных, не приходили ли мы. Больше его никто не видел. Как мы узнали потом, его расстреляли…
Где-то в феврале 42-го всех евреев собрали ночью, вырубили прорубь в Днестре и всех утопили. Нескольким семьям всё же удалось вырваться. Одна женщина рассказывала, что она искала мою сестру, чтобы забрать её с ними. Но как раз в этот вечер сестры не было. Как говорится, ей не было суждено, и её утопили вместе со всеми…
Известен случай, когда одна женщина перед тем, как её толкали в прорубь, ухватила румына за шею у утащила с собой под воду…
А когда подошли мы, то местные молдаване уже об этом знали. Они сказали, что нам нельзя возвращаться. И мы повернули назад, в сторону Украины…
Была очень суровая зима. Мы опять шли от села к селу, и таким образом хотели добраться до Крыжополя (Винницкая область). Там было очень большое гетто. И когда до Крыжополя оставалось километров 15, мы зашли в какой-то домик погреться. Там жил один старик. Он нас покормил. И сказал: «Зачем вам идти в такой далёкий путь с ребёнком? Лучше пойдите в соседнее село, Ольшанку, до него всего 7 километров.» Мы послушались его совета, и когда пришли в Ольшанку, то оказалось, что там тоже есть евреи. Там испокон веков жили три брата с семьями. И беженцы. Там даже были наши земляки, три каменские семьи. Мы спросили у них, что нам делать, и нам посоветовали пойти к старосте. Когда мы пошли к нему, то он спросил, ничего ли у нас нет из ценностей, и сказал, что ничем не может нам помочь и сказал нам идти в Крыжополь. Но мама сказала, что она уже больше не может идти и решила на свой страх и риск остаться. И мы стали скитаться в этом селе. Оно оказалось очень большим. Там жили в большинстве своём довольно порядочные люди. Мы ночевали по разным домам. Мама помoгала хозяевам копаться в огороде. Становилось всё теплее. Одежда на нас уже поизносилась…
Один раз мы заблудились и случайно попали в центр села. Нас догнал сын старосты и сказал, что Шеф де пост (командир румынского жандармского поста) уже знает о нас, и либо мы сегодня уберёмся из села, либо нас арестуют. Мама сказала, что она больше не может никуда идти, и решила пойти сдаться в Примэрию (сельсовет). Когда мы пришли туда, мама была белая от страха. Мы сказали, что мы – евреи, и спросили, что нам делать. Нас послали к камому-то служащему, который заполнил анкеты и ознакомил нас с правилами. Мы обязаны были отмечаться у старосты каждый день утром и вечером. Нас должны были посылать каждый день по графику на работу.
И мы поселились в Ольшанке уже официально. Там было несколько домов в центре, где жили все евреи, человек 100 – 150. Дома были огорожены проволокой. Сапожники, портные и другие квалифицированные рабочие занимались своей работой. А тех, кто как и моя мама не имели рабочей профессии, посылали на сельхозработы. Я ходил вместе с мамой. По четвергам мама работала на румынском жандармском посту, находящемся в 5 километрах от Ольшанки в селе Вербка. Там постоянно что-то строили. То конюшню, то гараж, то столовую. Мама покрывала стены глиной…
— Что вы остальное время делали, как вы питались?
— Моя мама когда-то умела вязать чулки. В тот период людям не было что надеть. А у крестьян были овцы, шерсть. И мы стали вязать им чулки. А за это крестьяне давали нам муку и продукты. Я тоже научился вязать. И предложил маме делать также и кофточки. Мама не умела, но другие женщины показали мне как, и мы стали вязать кофточки. Вот этим и зарабатывали себе на жизнь.
— В каких домах вы там жили?
— В селе было много пустых домов, некоторые же эвакуировались. Нам нельзя было выходить за огороженный проволокой участок. Когда приезжал офицер из Вербки, начинались проверки. А когда он уезжал, было поспокойнее.
— Не было ли случаев погромов со стороны местного населения?
— Нет, не было. В основной своей массе люди были очень порядочные и относились к нам с пониманием.
— Вы носили определённые знаки?
— Да, носили на левой стороне груди жёлтые шестиконечные звёзды, пришитые на чёрный кружочек. Мы их делали сами. Нам мама их сшила из кусочков кожи. А один человек сделал из двух-копеечной монеты такую красивую звезду, что она была похожа на Звезду Героя… У нас могли быть серьёзные неприятности, если мы не надевали эти звёзды.
В этом селе стояли восемь немецких связистов, которые ни во что не вмешивались. Всем командовали румыны. Но немцы требовали, чтобы к ним посылали на работу. Даже и меня один раз послали перебирать картошку. Однажды приехал румынский офицер и его задело, почему немцы забирают к себе людей на работу. Он собрал евреев, пиливших в этот день немцам дрова, и приказал их избить. На крики сбежались немцы и страшно поругались с румынами. Румынский офицер кричал, что он здесь хозяин, а немцы говорили ему, что какой он, мол, хозяин, когда немцы главнее… Вот такой инцидент был тоже…
Так мы и жили там до марта 1944 года, вплоть до нашего освобождения… Как-то утром к нам прибежали люди и сказали, что видели танки со звёздами. А к одной женщине ночью приходил сын – это была разведка Красной Армии. Но люди ещё как-то сомневались. Больше всего мы боялись того, что румыны уничтожат нас, когда будут убегать. Но в ту ночь, когда Красная армия стала наступать, румыны убежали настолько быстро, что никого не успели тронуть. Через пару дней пошли штрафные батальоны – оборванные, без формы. Мы никак не могли поверить, что это Красная Армия. А через несколько дней пошла регулярная армия. Они были в погонах, и мы их испугались, т.к. до войны военные ходили в петлицах, а о смене формы мы ничего не знали. Мы вышли за пределы гетто, свободно ходили по селу, общались с солдатами и радовались русской речи. Стали появляться солдаты-евреи. Они очень удивлялись тому, что мы спаслись, т.к. до сих пор не встречали выживших евреев на освобождённых территориях…
Мы подождали, пока потеплеет, и где-то под Пасху пошли домой. Мы находились всего в 25 километрах от Каменки. Но это был уже другой жандармский округ. И тем, кто остались там, пришлось значительно хуже, чем нам.
Мы вернулись домой. Наш дом был разрушен. Мы пошли в райисполком. Люди нас знали. Председатель помог нам с жильём…
— У вас была большая семья. Вы что-нибудь знали о ваших родственниках в период войны?
— Нет, в период войны мы ничего о них не знали. Когда мы уже вернулись, то узнали о гибели отца и сестры. Через некоторое время мы получили письмо на адрес сельсовета. Мой дядя, мамин младший брат, воевавший в Красной Армии, разыскивал нас. Вот так мы и связались с ним. Первое, что он мне прислал – это пара солдатских ботинок. Они, правда, были великоваты, но зато я уже мог выйти на улицу в грязь. До этого мне вообще нечего было надеть. Если на еду мы хоть как-то ещё могли себе заработать, то с одеждой была полная беда…
— А что стало с теми родственниками, которые остались в Каменке?
— Они все погибли… Моя бабушка, другие мамины родственники. Многих гнали по этапу. Люди умирали, замерзали, их расстреливали…
— В период когда вас освободила советская армия, как к вам относились офицеры-неевреи? Не было ли проявления антисемитизма?
— Нет, не было. К нам относились очень хорошо и даже с сочувствием. Мы не чувствовали неприязни. Был какой-то единый порыв. Мы были очень довольны свободой. А потом, когда уже стали мобилизовывать местное население, и они стали проходить через село, вот там уже были разные отщепенцы, которые ещё застали оккупацию. Они, до того, как приняли присягу, вели себя по разному. Некоторые были озлоблены, что их призывают в армию, ведь многие бежали из армии во время отступления.
— А не чувствовали ли вы проявления антисемитизма со стороны местных жителей, когда вы вернулись в Каменку?
— Нет, все притихли, многие боялись, ведь были суды. В Сороках, временной столице Молдавии (до освобождения Кишинёва), работал СМЕРШ. Судили старост, пособников румын, мародёров – их всех попересажали. И я помню, мама тоже выступала в суде как свидетель.
— Что было после того, как вы вернулись в Каменку?
— Мы начали потихоньку обустраиваться. Я пошёл в школу. Потом закончилась война. С каждым днём становилось легче, было снижение цен, потом отменили карточки. Я закончил семь классов, и поступил в техникум в Одессе.
— Много евреев вернулось в Каменку?
— Нет, очень мало, по сравнению с тем, что было до войны. Но потом начали возвращаться люди из эвакуации. И опять собралось много евреев. А потом люди потихонечку начали переезжать в города. Но наша семья осталась.
После ее нападения на Советский Союз массовое уничтожение евреев началось на всех оккупированных территориях, однако способы и масштабы убийств нередко различались. В то время как в странах Западной Европы евреев депортировали в лагеря смерти (как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях), на территории СССР, в том числе и на землях, присоединенных к Советскому Союзу в 1939-1940 годах, евреи уничтожались на месте, во многих случаях — с привлечением для этой «работы» местного населения.
В качестве примера исследователи, как правило, называют Литву, Латвию и Западную Украину. Эти территории по неоднозначно объяснимым причинам послужили нацистам неким испытательным «полигоном» в «окончательном решении» еврейского вопроса, курс на которое был взят на Ванзейской конференции в Берлине только в начале 1942 года, когда подавляющее большинство еврейского населения на названных территориях уже было уничтожено. Во многих местах, особенно в небольших населенных пунктах, полиция из числа местного населения и другие коллаборационисты уничтожали евреев даже без участия немцев или при акции уничтожения присутствовали один-два представителя оккупантов — для организации.
На территорию Латвии Вторая мировая война пришла 22 июня 1941 года с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз. По последней предвоенной переписи населения Латвии (1935 год) в Латвии насчитывалось 93 тысячи евреев. К началу войны эта цифра вряд ли существенно изменилась, только за вычетом депортированных сталинским режимом. Имеющимися в распоряжении историков архивными документами подтверждается депортация из Латвии 14 июня 1941 года 1771 еврея, что составляет 11,7 % всех депортированных при доле евреев в составе населения страны 4,8 %.
В связи со стремительным продвижением немецких войск период времени, в течение которого можно было уйти в советский тыл, оказался очень коротким: оборона Лиепаи началась уже 23 июня, 26 июня пал Даугавпилс, 1 июля гитлеровцы заняли Ригу, а 8 июля в их руках уже была вся территория Латвии.
Следует отметить, что после включения Латвии в состав СССР в 1940 году граница между нею и Российской Федерацией продолжала оставаться закрытой, и для поездок в обоих направлениях требовалось получать специальное разрешение. Такое положение сохранялось вплоть до 3 июля 1941 года, поэтому не все желавшие уйти в советский тыл смогли это сделать. Довольно многие были вынуждены вернуться. Эвакуироваться (фактически это была не эвакуация, а бегство) удалось около 40 тысячам жителей Латвии, из которых, по некоторым оценкам, половину составляли евреи. На момент оккупации всей территории Латвии нацистской Германией, по немецким данным, здесь находилось около 70 тысяч евреев.
Главная роль в уничтожении евреев отводилась четырем специальным группам службы безопасности СД (Einsatzgruppen ). Из этих четырех групп Прибалтика входила в сферу деятельности эйнзацгруппы A, которой командовал бригаденфюрер СС Вальтер Шталеккер (Stahlecker ) и которая насчитывала 990 человек. Однако эта группа не была единственным организатором и исполнителем Холокоста в своем ареале деятельности. В том или ином виде в это были вовлечены все германские вооруженные подразделения и гражданские оккупационные учреждения. В частности, это некоторые подразделения германской армии — вермахта (особенно полевые комендатуры — Feldkommandantur ), морские пехотинцы, полиция — полицейские батальоны и гражданские полицейские. В ряде случаев они демонстрировали местным коллаборационистам, как следует выполнять эту «работу». Оккупационное «гражданское» управление преуспело в использовании евреев в качестве рабской рабочей силы. Именно оно руководило изоляцией евреев в гетто и формально осуществляло управление ими (хотя реально там распоряжалось СД).
Жители оккупированных нацистами стран иногда помогали нацистам, иногда были индифферентны, иногда симпатизировали нацистам или их жертвам. Хотя Холокост в Латвии в целом соответствует отмеченной выше его специфике на оккупированных нацистской Германией территориях СССР, российский историк И. А. Альтман на обширном сравнительном материале приходит к выводу, что по степени вовлеченности местного населения уничтожение евреев в Прибалтике носило беспрецедентный характер (при этом он отмечает, что помимо представителей коренных народов среди этих людей были и люди других национальностей): «Именно на этих территориях нацистский геноцид евреев впервые стал тотальным. <…> Открытое и зверское уничтожение евреев… было одной из особенностей Холокоста в Прибалтике».
Воспоминания переживших Холокост иногда создают впечатление, что не немцы, а представители местного населения развязали массовые убийства евреев, ибо нацистская политика геноцида была выстроена таким образом, что в первый период Холокоста в Латвии (до ноября 1941 года) евреи уничтожались руками местных коллаборационистов, поэтому в качестве своих мучителей и убийц евреи видели латышей, а не немцев.
Вопрос о конкретных мотивах, побудивших значительное число представителей местного населения по собственной воле не только пойти в услужение к нацистам, но и стать соучастниками творимых ими кровавых преступлений еще не вполне ясен. Чем они руководствовались в большей степени: ксенофобскими настроениями, местью евреям за якобы чрезмерное сотрудничество с советской властью (еще один развенчанный миф о том, что с советской властью в большей мере сотрудничали инородцы, а не латыши), жадностью к еврейскому имуществу, желанием выслужиться перед новыми хозяевами (ведь в Латвии хорошо знали немецкий язык, и из передач германского радио было известно, «откуда дует ветер»)?
Во многих случаях (и это убедительно прослеживается в ряде архивных документов) стимулом для вступления в «силы самоохраны», участия в арестах, охране, конвоировании, а затем и расстреле евреев были не столько антисемитские настроения, сколько чувства вседозволенности, безнаказанности и алчности а в ряде случаев — и стремление «загладить вину» за сотрудничество с советской властью в 1940-1941 годах.
Нравственные аспекты нацистского коллаборационизма в Латвии связаны с трагическими коллизиями всего лишь неполного полувека: прокатившиеся по этой территории несколько волн террора — революция 1905-1907 годов, Первая мировая война, революция 1917 года, Гражданская война и иностранная интервенция с их сначала красным, а затем белым террором, наконец, сталинский террор 1940-1941 годов — в значительной мере способствовали одичанию нравов, когда обесценивалась человеческая жизнь.
Точка зрения, высказанная пережившим Холокост в Риге Исааком Клейманом, сводится к тому, что почву для Холокоста подготовили патологические изменения в общественном сознании, деформированные мораль и система ценностей. В этой связи он говорит о «предосвенцимском менталитете» — в таком же значении, как в медицине говорят о «предынфарктном состоянии». Господствовавший в довоенной Европе национализм был деформированным, агрессивным и шовинистическим. Националистической идеологии в Латвии после советских репрессий был нужен образ врага, и в такого коллективного врага было превращено еврейское меньшинство.
Схема антиеврейской пропаганды нацистов была простой, но эффективной. Она использовала следующие особенности Восточной Европы (в отличие от Западной):
— еврейские общины в Восточной Европе жили намного более замкнутой, обособленной жизнью, и местные жители считали, что евреи — «другие»;
— в сознании восточноевропейцев Холокост был как бы затенен террором, осуществлявшимся советской системой.
Местное население подводилось к мысли:
— если евреи — «другие», то они не должны иметь тех же прав, что и мы;
— если они не пользуются теми же правами, что и мы, то их лучше изолировать от нас;
— если они лишены прав и изолированы, то для чего им жить вообще?
Такова была политика нацистского оккупационного режима, свет на которую проливает, в частности, телеграмма шефа немецкой полиции безопасности и СД Рейнхарда Гейдриха командирам эйнзацгрупп на оккупированных Германией территориях от 29 июня 1941 года о том, что «не следует чинить препятствий самостоятельным стремлениям антикоммунистических и антиеврейских кругов к чисткам во вновь занятых областях. Напротив, их [чистки] надо интенсифицировать и там, где это требуется, направить в нужное русло, но не оставляя никаких следов, чтобы эти местные "круги самообороны" не могли позже сослаться на какое-либо распоряжение или данное им политическое обещание».
Массовое уничтожение евреев в Латвии нацистский оккупационный режим начал только после того, как на всей ее территории была создана так называемая латышская «самоохрана» (Selbstschutz ) с целью уничтожить евреев руками местных жителей и создать впечатление, что они это делали сами по собственной инициативе. С середины августа по октябрь 1941 года отряды «самоохраны» были ликвидированы по мере того, как была выполнена их главная задача — в малых городах и сельской местности Латвии евреи были почти полностью уничтожены. Дольше вех просуществовал отряд «самоохраны» в Вентспилсе — до начала октября и был ликвидирован только после убийства всех вентспилсских евреев.
Ряд историков, соглашаясь с тем, что беспрецедентная по своим масштабам политика геноцида стала возможной только при условии ее организации и поддержки всей нацистской государственной машиной, в то же время документированно относят целый ряд акций на счет собственной инициативы коллаборационистов.
На наш взгляд, сторонники обеих точек зрения недостаточно учитывают еще одно обстоятельство, а именно: существование в предвоенной Латвии «пятой колонны» нацистов, которое ярко проявилось в деятельности так называемых «национальных партизан» — пронацистского подполья, включавшего вооруженные отряды местных националистов, делавших ставку на неминуемый военный конфликт между фашистской Германией и Советским Союзом и готовивших в этой связи восстание в тылу Красной армии.
Организация и деятельность подполья координировалась германскими спецслужбами. В Латвии его организаторами и инициаторами активизации при отступлении Красной армии были агенты абвера (германской военной разведки) — бывшие офицеры латвийской армии полковник А. Пленснерс (бывший латвийский военный атташе в Германии) и полковник-лейтенант (подполковник) В. Деглавс (бывший латвийский военный атташе в Литве).
Некоторые отряды (в Латвии их было до 20) насчитывали несколько десятков боевиков. Эти отряды нападали на отступавших красноармейцев и расправлялись с пытавшимися эвакуироваться в советский тыл мирными жителями или передавали их гитлеровцам. Возомнив себя «национальными партизанами», в действительности никаких «национальных» задач они не решали, а были всего лишь инструментом в руках германских секретных служб, по замыслу которых, деятельность этих вооруженных формирований должна была быть кратковременной и ограничиться еврейскими погромами, однако какой-либо роли в завоевании и контроле территории для них предусмотрено не было. Поэтому 8 июля 1941 года, когда Германией была оккупирована вся территория Латвии эти отряды были расформированы как самочинные и им было приказано сдать оружие. Вместо них из тех же боевиков была организована вспомогательная полиция порядка (Hilfspolizei ), теперь уже под полным контролем СД.
Требует изучения вопрос о связи упомянутых отрядов с группами террористов, на действия которых указывают не только историки, но они прослеживаются и в воспоминаниях очевидцев тех событий — как уже ушедших из жизни, так и ныне здравствующих. Речь в них, в частности, идет об обстреле с крыш и чердаков домов мирных жителей Риги, пытавшихся эвакуироваться в советский тыл. Череда огневых точек у Центрального вокзала и вдоль главной магистрали города — улицы Бривибас недвусмысленно свидетельствовала о том, что в те дни велась организованная охота на людей.
Уничтожение евреев началось уже на второй день немецкого вторжения в Латвию, 23 июня, в Гробине, где людьми из эйнзацгруппы А на еврейском кладбище были убиты шестеро местных евреев. Однако массовое уничтожение еврейского населения в латвийской провинции началось несколькими неделями позднее. Для его начала оккупанты сочли важными две предпосылки: установление и укрепление оккупационного режима и обеспечение участия местного населения в уничтожении евреев.
Внедрялась следующая схема обращения с евреями:
— выявление (местной латышской администрации было поручено зарегистрировать всех проживавших на соответствующий административной территории евреев). Без этого нацисты не могли бы идентифицировать евреев, а следовательно, не смогли бы уничтожить столь большое число людей в такие короткие сроки (бόльшая их часть была уничтожена к концу 1941 года);
— стигматизация, т. е. «клеймение» (принуждение евреев к ношению на одежде определенного опознавательного знака, преимущественно желтой шестиконечной звезды. В Лиепае это были сначала желтые прямоугольники, а в Прейли — пятиконечные звезды);
— геттоизация, т. е. изоляция в специально выделенных для этого кварталах города, — по аналогии со средневековым гетто (части города в средневековой Европе, выделенной для изолированного проживания евреев);
— уничтожение (для этого была создана упомянутая «самоохрана» и специальные подразделения СД, набранные из местных жителей).
В постсоветской историографии Латвии обычно говорится о существовании в Латвии трех еврейских гетто — в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, гетто имели характерную для таких мест «полную структуру» (еврейский совет (юденрат), биржа труда, еврейская полиция, медицинская и социальная службы и т. д.). Однако вопрос о числе гетто на территории Латвии не однозначен. По данным, восходящим к советской Чрезвычайной государственной комиссии, здесь их насчитывалось 18. Места изоляции евреев на специально отведенной территории в населенном пункте с целью их последующего уничтожения имелись в Айзпуте, Бауске, Балвах, Вараклянах, Вентспилсе, Виляке, Даугавпилсе (Гриве), Елгаве, Зилупе, Карсаве, Краславе, Крустпилсе (ныне часть г. Екабпилса), Лиепае, Лудзе, Прейли, Резекне, Риге, Яунелгаве.
Среди созданных для убийства евреев вспомогательных подразделений СД первой была команда Мартиньша Вагуланса в Елгаве (создана 29 июня и распущена уже в середине августа, когда она выполнила свою задачу). Второй и самой известной была команда Виктора Арайса, которая убивала евреев самое малое в 19 местах оккупированной Латвии и число жертв которой по меньшей мере 26 тысяч человек; она участвовала в карательных операциях и за пределами Латвии и уничтожила в общей сложности примерно 60 тысяч человек; третьей была группа Греберта Тейдеманиса в Валмиере.
В качестве кругов, из которых рекрутировались нацистские коллаборационисты, можно назвать ряд категорий лиц: избежавшие сталинских массовых репрессий 14 июня 1941 года; уволенные в конце июня из-за недоверия военнослужащие 24-го территориального (латвийского) стрелкового корпуса Красной армии (в него в августе 1940 года была преобразована латвийская армия); бывшие советские активисты, стремившиеся «искупить грехи»; лица (их было особенно много), склонные без промедления менять свою политическую ориентацию в условиях частой смены власти; лица, связанные с германскими спецслужбами.
Первыми в массовом порядке были убиты евреи латвийской провинции — в малых городах и сельской местности (около 30 тысяч). Это произошло до конца лета 1941 года. Если в крупных городах — Риге, Даугавпилсе и Лиепае — в первые месяцы оккупации уничтожение носило в некоторой степени избирательный характер и здесь существовала какая-то вероятность спасения, то в малых городах, местечках и сельской местности оно было тотальным.
Наблюдалось два подхода к убийству евреев. Иногда убийства происходили в несколько этапов: прежде всего уничтожались мужчины, а позднее — женщины и дети, а иногда одновременно уничтожались все. Первый случай тотального уничтожения имел место в Ауце 11 июля 1941 года, когда одновременно были убиты все евреи, включая женщин и детей.
После уничтожения большей части латвийских евреев перед нацистскими пропагандистами была выдвинута новая задача: тесно привязать латышскую нацию к гитлеровскому Третьему рейху. Надо сказать, что во многом это тогда удалось, если принять во внимание число бежавших из Латвии вместе с гитлеровцами и успешность реэкспорта в Латвию возникших в их среде исторических мифов. Эти мифы, к сожалению, не были критически восприняты рядом местных, латвийских авторов, которые в период кризиса и крушения советского режима, а также в постсоветский период действовали «от противного»: охотно подхватывали все, что шло вразрез с советской историографией.
Психологическая природа подобных мифов понятна: воевавшие за неправое дело и проигравшие в этой борьбе искали для себя оправдания в собственных глазах. Однако живучесть мифов не только в массовом сознании, но даже в трудах историков оказалась велика. Некоторые из таких мифов даже перекочевали в школьные учебники. Дело в том, что ученые-историки, даже на будучи политически ангажированными, не всегда способны абстрагироваться от представлений, бытующих в обществе на уровне обыденного сознания. Конкретно в условиях Латвии это усугубляется еще и числом воевавших на стороне нацистской Германии (оценивается от 146 до 150 тысяч человек). Если учесть, что к началу войны население Латвии составляло около 2 миллонов (около 80 % были латыши), то это могло затронуть большинство латышских семей. К тому же, нацистский оккупационный режим на территории Латвии (если исключить его отношение к евреям) в целом был мягче, чем на ряде других оккупированных Германией территорий.
Особенности Холокоста в Латвии в разные отрезки времени позволяют провести некоторую его периодизацию.
Первый период можно назвать этапом эйнзацгрупп, когда нацисты уничтожали евреев в основном руками местных коллаборационистов, а руководили убийствами и частично осуществляли их подразделения эйнзацгруппы А. Он продолжался с июля до конца августа 1941 года, когда были убиты несколько тысяч евреев в Лиепае и Риге (в основном это были мужчины) и подавляющее большинство евреев в малых городах и сельской местности.
С прибытия в Ригу назначенного высшим руководителем полиции и СС в Остланде обергруппенфюрера СС Ф. Еккельна (Jeckeln ) 16 ноября 1941 года начинается второй этап Холокоста в Латвии, который связан с убийством рижских евреев в Румбульском лесу и лиепайских евреев в дюнах Шкеде.
Еккельн лично спланировал и собрал подразделения для обеспечения убийства. В двух румбульских акциях 30 ноября и 8 декабря 1941 года погибли около 25 тысяч рижских евреев и 1000 евреев, привезенных из Германии. В дюнах Шкеде вблизи Лиепаи 15-17 декабря 1941 года было убито более 3500 евреев. Одновременно с уничтожением рижских евреев в Румбуле на станцию Шкиротава в Риге стали прибывать железнодорожные составы с «евреями из рейха», которых предусматривалось уничтожить в Латвии. Прибытие таких составов продолжалось вплоть до декабря 1942 года.
На начало 1942 года в живых оставались только 6000 латвийских евреев, которых продолжали использовать как рабскую рабочую силу. С этим связан третий этап Холокоста в Латвии, когда убийства евреев продолжались в гораздо меньших масштабах, а в целом этот этап характеризуется функционированием трудовых лагерей. Это были «малые гетто» в Риге и Даугавпилсе; в Лиепае гетто было создано позднее, чем в других городах Латвии (1 июля 1942 года). Своеобразной формой трудового лагеря у нацистов были казернирунги (нем. Kasernierung — казарменное положение) — поселение узников в доме-казарме вблизи места работы. К ноябрю 1943 года все евреи из латвийских гетто были переведены в построенный в Риге концлагерь Кайзервальд и 11 его филиалов (в Риге и за ее пределами).
Четвертый этап Холокоста латвийских евреев — это вывоз тех из них, которые остались в живых, с приближением к Риге Красной армии начиная с 6 августа 1944 года в концлагеря на территории Польши и Германии и их гибель там. Особенностью Латвии по сравнению с другими территориями СССР, оккупированными нацистской Германией, было то, что нацистская оккупация продолжалась здесь с первого дня войны — 22 июня 1941 года и вплоть до капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Хотя бóльшая часть территории Латвии оказалась в руках Красной армии уже осенью 1944 года, до самого конца войны существовал «Курляндский котел», где в лесах скрывались несколько десятков евреев (около 50 человек), из которых половины были пойманы и убили. В Лиепае до марта 1945 года находилось точно не выясненное число евреев, которых в октябре 1944 года вывезли из Риги. Часть осталась в Лиепае до капитуляции Германии, а часть в марте 1945 года была перевезена в Гамбург. Для тех евреев, которых с 6 августа до начала октября 1944 года вывезли из концентрационного лагеря Кайзервальд в Риге в концлагерь Штутгоф на территории Польши и далее в лагеря в Германии, Холокост закончился только после капитуляции Германии. Из евреев, депортированных из оккупированной Латвии и в Латвию, выжили только 1182 человека.
Установлено более 400 попыток спасения евреев годы нацистской оккупации Латвии их нееврейскими согражданами — удачных, как это сделали, например, рижанин Жанис Липке (более 50 человек) и лиепайчанин Роберт Седолс, и неудачных — например, рижанка Алма Полис, погибшая от рук нацистов.
В течение всех послевоенных лет в научной литературе и публицистике актуальным был вопрос о розыске и наказании нацистских преступников, который был связан главным образом с тем, что в условиях «холодной войны» тогдашнее руководство стран Запада последовательно не придерживалось принципов ряда международных соглашений (начиная с Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства от 30 октября 1943 года и т. д.), и фильтрация перемещенных лиц была поставлена у них из рук вон плохо. Ни для кого не секрет, что среди этих лиц были отнюдь не только люди, бежавшие от сталинского режима или угнанные нацистами насильно (так, перед отступлением гитлеровцы устроили настоящую охоту на людей в Риге), но и лица, каким-либо образом запятнавшие себя сотрудничеством с гитлеровцами, а также соучастники их преступлений. В результате именно такой политики очень многие преступники ушли от ответственности вообще либо наказание настигло их только спустя многие годы.
В то же время в Советском Союзе в первое двадцатилетие после Второй мировой войны было проведено большое число судебных процессов над нацистскими преступниками и их местными сообщниками. Если в первые послевоенные годы эти процессы носили во многом присущий сталинской «юстиции» шаблонный характер, то в период хрущевской «оттепели» уже имела место состязательность обвинения и защиты. Однако в любом случае следственные материалы этих процессов содержат множество часто весьма подробных показаний, являющихся, несмотря на отпечаток времени и обстоятельства их получения, важными историческими источниками, на сегодняшний день иногда единственными, которые позволяют (разумеется, при соответствующем критическом отношении) восстановить подлинную картину происшедшего.
P.S. сайт. В январе 2015 года председательствующая в Евросоюзе Латвия заблокировала проведение в ЮНЕСКО историко-документальной выставки о Холокосте и нацистских карательных операциях.
На центральной фотографии: Беженцы, не успевшие эвакуироваться и возвращенные «пятой колонной» в оккупированную Ригу. Июль 1941 года.